Портвейн — крепленое вино, изготавливаемое из растущего в долине реки
Дору винограда.
Название происходит от города, через порт которого этот вид «разбавленного» этанола традиционно экспортируют.
Просыпаясь в своем отеле, я слышу надоевший мне за двенадцать дней крик чаек и почему-то вспоминаю о сидящей на рецепции мрачно-величественной, словно исполнительница фаду, даме.
Выглянув на балкон, обнаруживаю на пляжной пустыне Матозиньюша серферов. Облаченные в гидрокостюмы они пытаются скользить по едва заметной волне.
До самолета — четыре часа.
Рюкзак упакован еще до эпохального разговора с Петровичем. Давно я столько часов кряду, сколько вчера с Бурунзиным, не беседовал. Осталось принять душ и не забыть в номере походные вьетнамки.
Утвердившись под прохладным водопадом в установленной, возможно, еще при жизни Фернана Магеллана душевой кабине, вспоминаю вчерашний день.
Мы пообедали с Петровичем недалеко от башни Клеригуш. Бурунзин утверждал, что это единственное место в центре Порту, где можно брать дораду, и свою порцию съел с большим энтузиазмом. Потом, идя по набережной Дору до района Фош-ду-Дору, иногда подзаряжались кофеином и десертами.
Познакомились мы накануне. Купив где-то в центре сувенирную кружку, тарелку из тех, что вешают на стену, примерно в восемь вечера я, после кратковременного обморока на втором этаже пятисотого автобуса, вышел на остановке в Фош-ду-Дору. Хотел сфотографировать закат на Атлантическом океане.
Отрезок пляжа — справа и слева выступы скал — был пуст. Кроме меня, единственным обитателем здесь в этот час оказался мужчина лет шестидесяти пяти. Он сидел, откинувшись на каменную кладку, смотрел куда-то за горизонт.
Сделав несколько кадров, посмотрел в сторону, как мне тогда казалось, португальца. Тот, заметив мое любопытство, кажется, высокомерно сощурился.
Однажды, идя с пробежки по променаду в отель, я уже видел его. Этот человек стоял на обочине, указывая жестами, что там, где он стоит — свободное парковочное место. Сидя за рулем, проскочить такое редкое явление легко, а назад не сдашь. Благодарные автомобилисты давали «подвижнику» — кто один евро, кто — два.
Присев на песок, я ждал. Мне хотелось сделать снимки, на которых солнечный диск касается горизонта, наполовину скрылся, едва виден из-за него…
─ Из Москвы? Из Питера?
Я вздрогнул.
«Португалец» стоял рядом, продолжая всматриваться в горизонт. В глаза бросились островки щетины, украсившие труднодоступные неровности. На загорелой шее, в обрамлении выреза красной майки, висел нательный крестик.
Солнце, тем временем, коснулось горизонта…
─ Из Большой деревни, — ответил я незнакомцу, поскольку с семнадцати лет жил именно в Нерезиновске.
─ Я из Ленинграда. Архип Петрович, — говоривший протянул грязноватую ладонь.
У него было очень сильное рукопожатие.
─ Я вас видел, вы постоянно парковочные места впариваете.
Вместо ответа на мой каламбур новый знакомый дрыгнул ногой, стряхивая налипший на вьетнамку песок, и закурил вынутую из мягкой пачки сигарету без фильтра.
До того, как покинуть родные берега, Бурунзин был одним из лучших литературных переводчиков с испанского и португальского в Ленинграде. Начало девяностых, в стране развал, пустые магазинные полки, общество на грани гражданской войны… Бурунзин же был из немцев. И смог это подтвердить. Долгие годы избегал советский переводчик ассоциироваться с чем-то немецким, а тут время пришло, когда это оказалось более чем кстати. Германия великодушно приняла его в свои объятия. О родных, о семье мой собеседник ничего не рассказывал.
─ Такое ощущение, когда уезжал, было… Эйфория! Вторая молодость наступила!
Произнося эти слова, Бурунзин картинно напряг оба бицепса и исторг из чрева очередную струю табачного дыма.
Сначала Архип Петрович жил в Баварии, потом на Тенерифе. Работал на строительстве то ли виллы, то ли целого дворца какого-то богача. Несколько лет как осел в Порту…
Вчера, дойдя до океана и района Фош-ду-Дору, взгромоздились с Петровичем на парапет.
За маяком Фелгейраш, слева от нас, смешивались с Северной Атлантикой приносимые из каких-то медвежьих углов Пиренейского полуострова, воды реки Дору. Позади нас, сразу за набережной, принимала солнечно-воздушные ванны каменная форталеза XVI века.
Сильная низкая волна, завершаясь обильными брызгами, иногда захлестывала подножие башни маяка, стоявшего в конце длинного мола, билась о берег. Между нами и ней на крупном пляжном песке валялось несколько равнодушных тел. Дул влажный и прохладный, несмотря на жаркое солнце, ветер…
До моего отеля было уже рукой подать. Говорили о литературе, о жизни…
─ Понимаете, Архип Петрович, это было… Лучше, чем Керуак, не скажешь. Я даже наизусть помню кусок из «Дороги»: «I was a young writer…».
─ Красивый фрагмент, — согласился Бурунзин. — «Я был молодым писателем… хотел отправиться в путь… я знал… где-то я завладею жемчужиной…» Каждый, в общем-то, хочет только одного — получить Жемчужину…
Бурунзин закурил очередную сигарету — океанский ветер метнул мне в лицо табачный дым.
─ Постоянно тогда носился с этой книгой, всем о ней восторженно рассказывал, давал читать, — вспоминал я журфак МГУ.
Дым летел в мою сторону. Я уже давно сам не курил. Запах жженого табака был неприятен…
Мимо проехал двухэтажный автобус пятисотого маршрута, в котором накануне вечером со мной приключился обморок.
Торчать на пляже надоело. Петрович предложил пойти в нашу сторону. Жил он, по его словам, поблизости.
Когда проходили очередной украшенный азулежу фасад, Петрович сказал:
─ Здесь я живу. Может, по рюмочке портвейна?
В квартире Бурунзина слегка пахло сыростью. Это напомнило мне запахи отсыревшей штукатурки, подгнившей древесины, плесени, которые всегда сопровождают храмы в Браге, Авейру, Порту, Лиссабоне.
Мы сели возле журнального столика — в метре от выходящего на набережную распахнутого окна. Между нами воцарилась уже откупоренная бутылка рубинового портвейна, в которой плескалось больше половины. Петрович извлек из какого-то скрипучего шкафчика две вместительные стопки, что-то вроде уменьшенных бокалов для виски…
─ Специальных емкостей для портвейна у меня нет.
Я вспомнил, как мы пили в поезде Москва — Ленинград, когда ехали на фестиваль Ленрок-клуба, портвейн из пластмассовой канистры. Ребята постарше из нашей миитовской общаги купили где-то разливного портвейна. И мы пили его, наливая в один-единственный пластмассовый складной стаканчик. Я играл на гитаре «Бодхисаттву» Майка, а трое парней мне подпевали: «Вперед, вперед Бодхисаттва, вперед!» Какой там 220-миллилитровый ридель, заполняемый на треть!
─ Это может помешать оценить букет! — не удержался и съехидничал я.
─ Хм. — Петрович щелкнул зажигалкой у себя перед носом.
Я поудобнее — уже прилично к тому моменту находился — устроился в кресле.
─ Скво поехала в Авейру, можно курить! — мой собеседник с довольным видом выпустил струю табачного дыма.
Жил Петрович с женщиной родом откуда-то из Центральной Африки. На стене висела ее фотография — за стеклом, в простой деревянной рамке.
─ Она у тебя молодая. Лет двадцать семь?
─ Скажешь тоже! Сорок семь почти. Сохранилась хорошо. А потом, это ж фотка…
Приземистая бутыль, сыр, сигареты в мятой пачке… Джентльменский набор, достойный полуночной детской песочницы в недрах Медведкова.
Бурунзин рассказывал о жизни в бывшей глобальной империи, имевшей когда-то богатейшие колонии в Южной Америке, в африканских и азиатских регионах.
─ Федор, здесь скромные университетские преподаватели — представь, что у этих людей в головах, — нанимают горничных! — возмущался Петрович, разражаясь кашлем курильщика. — Тебя — кхе-кхе-кхе! — просто не поймут, если ты с таким социальным статусом, сам прибираешься дома. В свою очередь горничная, если она из местных, раз в неделю тоже приглашает горничную. Чтобы… испытать гордость за то, что у нее дома за нее делают грязную работу другие. Кхе-кхе…
Я вспомнил кварталы Рибейры и Мирагайи с парусами сохнущего на фасадах белья. И по всему Порту — целые улицы обветшавших, выставленных на продажу, а, по сути, кажется, брошенных, домов…
Подстегиваемая рубиновым портвейном беседа стала походить на разговор старых приятелей. Обращение на ты приобрело новое — естественное — звучание.
─ Петрович, я очень хотел писать… не так, конечно, как Керуак, но талантливо, страстно… У меня не было стимуляторов, которыми пользовался Джек, даже ни одной записи Чарли Bird Паркера, чтоб хоть как-то сымитировать атмосферу, в которой писалась «спонтанная проза», но я портил бумагу, испещрял записями экран 386-го компьютера. Под виниловые пластинки «Роллинг стоунз» или «Калинова моста». Под крепкий чай. Под растворимый кофе. У родителей в Драченах. В комнате общежития на «Студенческой», сданной мне на несколько месяцев аспиранткой из Коломны…
Я вспомнил, как в нише той каморки без санузла — за занавеской на одной из полок — обнаружил бутылку водки, а в шкафу — еще пахнущий молодой женщиной бежевый кружевной бюстгальтер. Выпить не с кем. И женщины к лифчику не прилагается…
Обрился наголо.
Рванул в Питер. Там холодина. С Балтики сильный влажный ветер, а я в одной джинсовой рубашке. Хорошо, свежая лысина прикрыта модной бейсболкой. Знакомый сводил в местное отделение Армии спасения, чтобы я утеплился. Сфотографировался с петербургскими приятелями на фоне Казанского собора и на крыше на углу Невского и Владимирского проспектов.
В день отъезда в Москву пригласил петербургскую красавицу-баскетболистку Наташу в кино.
Встретившись на станции метро, предложил идти в загс. У Наташи отвалился каблук, и я нес ее километр на руках до будки сапожника рядом с кинотеатром «Родина». Потом стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые… Наташа помахала отходящему поезду косыночкой, стоя на перроне Московского вокзала… Вот такая жемчужина.
─ Федь, ты про Сноудена слышал? — спросил Бурунзин, подливая.
Чокнулись.
─ Федь, с точки зрения человека верующего, все знает Бог. Как минимум.
Петрович, прикурив потухшую сигарету, глубоко затянулся.
─ А Сноуден тут при чем?
─ Он, Федя, поведал миру о слежке АНБ за всеми поголовно. Вот ты ввел, например, в строке поиска запрос «Pearl». Потому что ты, как Керуак, предположим, ищешь Жемчужину. Этот твой запрос, и миллионы других, может, еще более дурацких, хранятся на громадных серверах Агентства национальной безопасности. Плюс еще куча информации о тебе: твои переписки в чатах, твои письма, твои транзакции, твои поездки и перелеты… И существуют программы для обработки таких данных. Вводится информация по любому человеку, а на выходе результат: «Федя годится на роль камикадзе». Или: «Петрович пригоден только для уборки пляжей Порту».
─ И?
─ Даже если Бога нет, все знает АНБ, старик! Но даже если и оно что-то упустило, все равно вся информация: о событиях, поступках, словах, мыслях, чувствах — где-то в этом мире хранится, кому-то известна. Ведь даже если человек смог организовать сбор информации, то природа наверняка имеет такой сервер, который в нее встроен изначально.
─ Петрович, а ты запрашивал Жемчужину? Не в Интернете, обращаясь к Вселенной.
─ Хм…
─ Петрович, чтобы получить Жемчужину, нужно ее заказать. Если Вселенная не знает, что ты хочешь нечто, она тебе это и не даст. Скорее всего…
Судя по выражению лица Петровича, он никогда ничего об этом железном принципе не слышал. В советское время такие теории государством замалчивались. А уехал он почти сразу после развала СССР.
Бурунзин зачем-то пристроил себе на нос мои солнцезащитные очки, которые я, сняв, положил на журнальный столик.
─ Федь, помнишь, «Айвенго» Вальтера Скотта? — Петрович следил за моей реакцией через затемненные стекла. Я заметил свое отражение в собственных осевших на носу Бурунзина очках. — Там у того парня на щите был изображен вырванный с корнем молодой дуб, а девиз рыцарский гласил: «Desdichado»…
Мне показалось, что Петровича переклинило.
─ Перевод в книге такой: «Desdichado — лишенный наследства». Вообще же с испанского слово переводится так: несчастный. Это про меня, Федя!!
─ Петрович, ты допускаешь грубейшую ошибку! Не надо себя программировать негативно. Попробуй говорить: «Я очень счастливый!»
─ Да нет, Федор, я там, в Ленинграде, чувствовал себя несчастным, а здесь, в Порту, в Евросоюзе этом, я именно что лишенный наследства!
Кажется, Бурунзин даже всхлипнул.
Истерики, подумалось, еще не хватало.
Никакой истерики не последовало. Петрович смотрел спокойно, с достоинством. Более того, по его мнению, надо было идти за добавкой.
Как известно, два русских интеллектуала всегда точно знают, когда пора.
─ Думаю, лучше «тони» взять, «руби» как-то уже не хочется, — со знанием дела изрек Бурунзин.
─ М-м-м…
─ Ну не «винтажный» же брать! — Петрович смотрел на меня, словно я возражал.
─ Это что за хрень?
─ Скажи еще, тебе все равно — что «поздно бутилированный», что крепленая краснодарская дрянь… — Бурунзин сказал это с пафосом, приосанившись и надувшись, словно подкачали автомобильным насосом.
─ В Риме, — рассказывал Петрович, когда мы шли по улице, — где у меня один родственник живет… Гостил я как-то у него, летал дискаунтером за десять евро в одну сторону. Возле Пантеона солдафон-итальянец заметил, что я фотографирую мыльницей его напарника… А они оба были в таких смешных шляпках с пером…
Бурунзин почесал желтым от табака пальцем нос, втянул им, словно собака, воздух. Принюхался, поморщился, вспоминая подробности, продолжил:
─ Проверил солдафон мои документы. И фамилия ему моя русская явно не понравилась. Понял по его реакции и вопросам.
─ Петрович, у тебя нет вида на…
─ Да самое настоящее немецкое гражданство уже почти пятнадцать лет у меня! — Бурунзин от возбуждения взмахнул обеими руками так, словно он плывет баттерфляем. — Но я ж не немец — ни по роже, ни по фамилии, ни по поведению! Слушай дальше. Заставив удалить изображения человека с какой-то заурядной автоматической винтовкой, солдафон этот довольно долго нудел: снимать милитари — ни-ни!
─ Странно как-то.
─ Ага. И я в шоке был. Какие секреты, Федя? Если б не их шляпы с пером… В Европе, ты ж сам знаешь, патрули — не редкость… только обычно эти… в форменных беретах…
Петрович щелкнул пальцами — окурок приводнился на лужу.
─ Что там за военная тайна, Федя? Секретный, от D&G, камуфляж? У шляпы с пером двойное дно?
Похоже, Бурунзина очень сильно задело недоверие, проявленное по отношению к нему — мирному фотографу-любителю — гражданину Германии и всего Евросоюза.
─ Вот и верь, Петрович, после этого в западное «открытое общество»!
Бурунзин мрачно затих и не отзывался на мои провокации.
─ Петрович, печально, что тебе запретили фотографировать в общественных местах красивые шляпы, но, допускаю, этим военным дали такую инструкцию, чтоб они на посту не спали и тренировали бдительность.
Бурунзин в ответ только фыркнул. Мне захотелось сменить тему.
─ Петрович, на меня в Риме огромное впечатление произвела Сикстинская капелла. Помнишь алтарную стену?
Я сообщил Петровичу, что изображение на потолке Сикстинской капеллы отделяющего свет от тьмы Создателя перекликается с не одинаковой судьбой праведников и грешников — помнишь гигантскую фреску над алтарем? — после земной жизни. Свет и тьма, и это следует не только из Ветхого Завета, существуют. Потому, получается, заключал я, все-таки действительно предстоит людям разделение на два противоположных потока.
Закат заслонили тучи. Холодный, несмотря на середину лета, вечерний ветер португальского побережья, бодрил окунувшиеся в этаноловую нирвану тела и души. Покидая супермаркет-чистилище с двумя бутылками «тони», мы походили на зыбкое отражение чаек в грязной воде грузового порта — за пляжем Матозиньюша — и претендовали на место в раю…
─ Архип Петрович, ты какие книги переводил? Камоэнса, небось?
─ Я только прозу. Сервантеса. Плутовской роман. Сказки… Преподавал в ЛГУ.
─ Только с испанского и португальского переводил?
─ В основном. С французского одну очень хорошую книжку перевел. «Обещание на рассвете» Ромена Гари.
─ Так ты полиглот?
─ А то! Я еще и немецким с английским очень прилично владею.
─ Погоди, а о чем в той книге?
─ Ну… там мать постоянно накачивает своего сына: ты станешь французским посланником, большим писателем, тебя будут любить самые красивые женщины! И этот парнишка расстается с девственностью в тринадцать лет, становится послом Франции и — действительно! — писателем с мировой известностью. У тебя случайно не такая мать?
Толик Хачатуров — рок-звезда, герой одного моего интервью, детство провел в старом, «без удобств», доме в центре Москвы. По этой причине он, считая, что вырос в гетто, вздохнув, констатировал:
─ Мне, при таком старте, пробиться на сцену было куда тяжелее, чем…
Он назвал несколько фамилий. Среди перечисленных попадались даже родственники первых лиц государства.
Я, появившись на свет на промышленной окраине городка Драчены, долгое время считал чем-то вроде гетто Булыжный овраг, через который лежал кратчайший пеший путь от моего дома в «город». Спускаться и карабкаться здесь приходилось по крутой тропинке, петляющей вдоль заборов, куч мусора и гниющих отходов. Впрочем, не буду даже пытаться сравнивать Булыжный с фавелами криминального Рио. Дома здесь стояли капитальные, рассчитанные на зиму, имелись приусадебные участки, а нападали в основном не на кого-угодно с пушками, а с кулаками на сверстников.
Нашу Дельту, как и Драчены в целом, я, разумеется, относил к вполне респектабельным местам проживания.
Почему район, состоящий в основном из серо-кирпичных пятиэтажек, носил гордое греческое имя? Так кто-то окрестил завод, вокруг которого жилые кварталы постепенно и появились. На «Дельте» собирали лучшие в Восточной Европе трактора. На главной проходной, на гигантской доске почета висел большой фотопортрет моего отца.
Пейзажи малой родины — не урбанистические даже, скорее — сельско-индустриальные. Обильная пыль, в сырую погоду — жирная грязь, безликие заводские корпуса, гаражи из ржавого железа, разбитый асфальт, мусор, лужи, разломанные автобусные остановки, загаженные лестничные клетки, разбитые двери подъездов… Словно строили светлое будущее, строили — и вдруг налетел ураган, разломал двери подъездов, согнул металлические конструкции автобусных остановок, зажег почтовые ящики, а разбитый асфальт залил грязью и засыпал мусором. В то же время изображения пролетария, всем своим видом говорящего, буржуям — конец, а также лики «святых» — Ленина, Маркса, Энгельса, на всех «рекламных поверхностях» нашего городка от года к году, кажется, становились только наряднее.
Нас окружала эстетика соцреализма — красные гвоздики на клумбах, красные флаги над входом в каждый пахнущий мочой подъезд с раздолбанной дверью, бело-буквенные лозунги на кумаче: «Слава КПСС!», «Мир, труд, май»…
Молчаливое сомнение в диктуемом партией и правительством бравурном настрое исходило, пожалуй, не только от квартала «химиков», где в общагах обитали мрачные мужики.
Оно было присуще той жизни вообще.
Если, писая в кустах или за гаражами, мальчишка случайно ронял несколько капель мочи на брюки, с большой вероятностью кто-нибудь гундосил:
─ Фу! Обтрухался…
Ребята во дворе почему-то предпочитали коммунистической риторике феню.
─ Блатной? — спрашивал пионер ровесника, не понимая толком, о чем говорит.
Вместо ответа юный ленинец — «Ша!» — получал затрещину, но успевал пнуть отскочившего оппонента. Тот ретировался.
─ Менжовка!
─ Вольтанутый!
Типичный, в общем-то, пример разговора по душам между драченскими пионерами.
Ничего удивительного. Пионервожатая, рассказав о героизме пионера-героя, называет невнимательных юных ленинцев чушками. Учительница, отчаявшись перекричать болтливых учениц, вздыхает: «Гадюжник…» Школьники-пионеры по любому поводу обзываются валетами и чувырлами. Все вполне логично.
Поскольку «на районе» была еще и секция дзюдо, словесная, предшествующая стычке, перепалка могла начаться так:
─ Ты че, дзюдоист?!
Двинуть кулаком в челюсть, пнуть. Что может быть лучше в плане проявления дружеской заботы?
Значительная часть подрастающего мужского населения на Дельте (что уж про Булыжный овраг говорить?) вписывалась в социальную категорию, про которую в Ленинграде или Воронеже тогда говорили: «Гопники». На драченских индустриальных просторах слова такого не знали, использовались следующие эквиваленты — пацан, качок, шкаф… Классический случай: папа — сильно пьющий разнорабочий или выпивающий «по праздникам» токарь, а сын — пацан, качок или даже шкаф. «Шкаф такой!» — произносилось с восхищением.
В этой изысканной атмосфере мне необходимо было приносить из школы одни пятерки. Взять курс на «отлично» я вынужден был еще года за два до первого класса, когда мои верящие в силу образования родители принялись со стахановским энтузиазмом готовить меня к школьным триумфам.
Однажды я, это было еще в начальной, разрыдался прямо в рекреации. Чтобы никто не заметил — уткнувшись в окно.
Две девочки постарше обратили внимание:
─ Что случилось? Как тебе помочь?
Из-за рыданий я не мог сказать ни слова. В руках у меня была тетрадь. Девчонки поняли: расстроен из-за плохой отметки. Когда они заглянули в мою тетрадку, опешили: за контрольную работу я, оказывается, получил пять с минусом! Эти девочки наверняка приносили домой не только четверки, но и тройки. И, скорее всего, их не ругали, не наказывали. Может быть, им в таких случаях даже сочувствовали:
─ Не расстраивайся, Олюшка, за следующий диктант непременно четверку получишь! — говорила, возможно, бабушка, подкладывая варенье…
Выразившие мне сочувствие школьницы-подружки, конечно, и представить не могли ужас стоящего перед ними ученика второго класса.
Для полноты картины замечу, что в это самое время, на той же перемене, Фуфелкин и Попляков, скорее всего, отыскали в туалете свои бычки и, не испытывая никаких нервных потрясений ни по поводу двоек за ту же самую контрольную, ни поводу курения, затягивались вонючей «примой» и весело о чем-то болтали.
Стоит ли сомневаться в том, что мальчик, получавший пятерки, носивший очки, в панамке выходивший из дома летом, в застегнутом пальто — зимой, балансировал на краю пропасти?
Твердого троечника и очкарика Вальку Кактусова, прочитавшего в библиотеках Драчен всю научную фантастику, но повисающего на перекладине, как мешок с говном (так изысканно выразилась физкультурница), считали опасным психом. Над ним сильно не издевались только потому, что Кактусов был крупным и болтливым. Валька вяло реагировал на пинки исподтишка, зато за словом в карман не лез и мог сильно заехать обидчику своим, размером с хороший чемодан, кейсом.
Отличники-маргиналы и представители промежуточных форм жизни — хорошисты и твердые троечники — более или менее сознательно стремились мимикрировать.
Помню, кажется, это был школьный пионерский лагерь, девочка с закрывающим почти весь затылок большим бантом, сказала мне про неказистого толстого мальчишку:
─ Бей его! За него все равно никто не заступится.
Сын главного инженера и главы гороно, конечно, не хотел драться, нападать. Что-то похожее на чувство справедливости шевельнулось в нем. Как же так? Надо пристыдить эту негодную девчонку! Надо защитить мальчишку.
Сволочь Лошадников сделал все наоборот. Ударил, подражая драченскому хулиганью, от которого и самому доставалось.
Мать, когда я однажды, лет в тридцать, рассказал о процветавшей в нашей школьной среде жестокости, удивилась:
─ А что ж ты тогда молчал?! Почему не рассказывал?
Почему? Мама строго-настрого запретила драться! «Пинаться» же с Рюрей, Фуфой, Ватрухой все равно приходилось. Это было неизбежно.
─ Петрович, моя матушка руководила драченским гороно. Сейчас — на пенсии.
─ Руководила? Строгая женщина?
─ Она часто была на нервах. Дома, помню, мы только и слышали про какие-то школьные проверки, педсоветы, звонки из облоно!
─ Повезло тебе…
Да, повезло. Или не повезло. Какая разница? В детство же не вернешься, не переиграешь же все по-новому.
Почему-то вспомнилось, как родители на кухне нашей хрущевки долго толковали на тему, какой сорт помидоров следует в этом сезоне культивировать на шести сотках. Вдруг телефонный звонок. Ситуация в корне меняется. За рассадой мать отправляется самостоятельно (Федя поможет донести до «дачи»). Отец едет в Нестеровку. Знакомый рыбак из Булыжного оврага шестнадцать кило настегал.
Мы жили в первом подъезде на втором этаже серо-кирпичного дома. Всего их у нашего «билдинга» было пять. Соседи по площадке — одноклассник Сашка Подвозов со старшей сестрой и родителями (оба — с «Дельты»). Мы с ним как-то на лестнице из брызгалок «обстреливали» друг друга. Досталось и почтовым ящикам. Потом соседка с четвертого этажа на нас орала: «Я письмо не смогла прочитать!!»
Это было в тот же день, когда Стасик — из параллельного класса — из своего двадцать четвертого дома забрел во двор нашего, десятого, с наполненным водой кондомом. Увидев врага, я, недолго думая, сделал выпад «шпагой» (тонкая рейка с эфесом из алюминиевой проволоки) — хлоп! — на асфальте появилось пятно, физиономию Стасика исказил когнитивный диссонанс. Произошло это в тот момент, когда Мишка из третьего подъезда рассказывал, как подсматривал за меняющей лифчик сестрой:
─ Такие сиськи!
Как-то мой взгляд уперся в вырез халата склонившейся надо мной медсестры. Не так уж много в ту пору поразило меня в окружающем мире, как это откровение. Впрочем, я был способен не только удивляться, но и удивлять. Поставив пластинку с «Бременскими музыкантами» на то место, сразу за которым звучит взрыв, отключал клавишей проигрывателя сеть и ждал, когда кто-то появится на лестнице. Заслышав шаги врубал «взрыв» (громкость стояла на максимуме). Приятно было наблюдать в глазок, как какой-нибудь сосед останавливается возле нашей двери и слушает: что это было?! В оптике дверного глазка комично-шпионское выражение лица неестественно вытягивалось. От этого становилось еще смешнее.
Своеобразным противовесом причудливому синтезу «КПСС + дворовая реальность» для меня стали идеальные герои — великие путешественники. Прежде всего — Фернан Магеллан и Христофор Колумб, о которых я с восторгом прочитал. Робинзон Крузо, Джим Хокинс, капитан Блад и персонажи десятка прочитанных мной романов Жюля Верна стояли в том же ряду.
Начиная лет с шести-семи, я часто сопровождал отца в его рыболовных вояжах и прогулках по городу.
Если мы пешком пересекали весь город, стартовав с нашей промышленной окраины, то пройдя исторический центр и перебравшись по мосту на другой берег, через час-другой оказывались на противоположной окраине.
Там, помимо построенного при царе-батюшке железнодорожного вокзала, было одно очень интересное место — магазин «Турист». Там я мог подержать в руках настоящее японское кимоно. Стоило оно двадцать пять рублей, и думать было смешно о том, что отец купит такую дорогую вещь. Хотя посещать секцию дзюдо, где бесплатно выдавались поношенные кимоно, мне родители не разрешили. Боялись, стану хулиганом.
Однако, что такое контркультура, к которой я столько лет тяготел, как не культурное хулиганство?
В «Туристе» мы с отцом рассматривали мотоциклы, мопеды, мотороллеры, велосипеды, удочки, гантели, дождевики, рюкзаки, палатки, снасти, шахматы, шашки, домино… Время от времени что-то из этого покупалось.
Когда я достиг подросткового возраста и увлекся поп-музыкой, мы с отцом обязательно заглядывали в «Культтовары». В этом магазинчике можно было выудить грампластинку с записями «Землян» или сборник западной эстрадной музыки, где даже один хит АВВА имелся.
Если с дисками совсем уж было плохо, покупали бобину с пленкой для нашей старенькой магнитолы, на которую я переписывал взятые у Игорька Кубикова из второго подъезда кассеты с «Динамиком» и Высоцким, а также какие-то лицензионные пластинки фирмы «Мелодия».
Сходив в «Турист», приятно мечталось на тему, как далеко и надолго можно поехать с продающимся там автоприцепом.
Устав от долгой прогулки, мы пускали корни в креслах лучшего кинотеатра нашего городка.
Посмотрев «Зорро» с Аленом Делоном, мы потом шли в приподнятом настроении, вспоминая цирковые трюки легендарного фехтовальщика. Вокруг была драченская слякоть и виды в поздней осени утонувшего посреди Среднерусской возвышенности невзрачного городка. Ничего напоминающего яркую природу Латинской Америки. Я же улавливал в стоящих вдоль главного заводского корпуса елях черты тропического леса, в проезжающих машинах — отдаленное сходство с повозками, влекомыми лошадьми, и даже в хлюпающем под ногами жирном черноземе обнаруживал пылящий под шпорами суглинок.
После одного из таких кинопоходов (присутствовали оба родителя) я, воображая себя корсаром, участвующим в абордажной атаке, побежал, споткнулся, упал и поранился так, что всем киноманам пришлось срочно наведаться в травматологию.
Когда работал продавцом на вещевом рынке в Лужниках, возвращаясь на метро, я довольно часто думал о родителях. О том, что они беспокоятся. О том, что я не зря болтаюсь по съемным углам в этом огромном и безразличном городе. О том, что они смогут мной гордиться. И эти мысли, чувства, которые они вызывали, — все это помогало мне выживать.
Я чувствовал какую-то связь с ними, с домом. Эта наша энергетическая пуповина была моим сильнейшим оберегом, не давала погибнуть в каких-то рискованных ситуациях. Например, когда я, выпендриваясь перед девушкой, ходил на уровне восьмого этажа по выступу стены.
В то же время, находясь дома, я и в возрасте за двадцать ощущал то родительское давление, которое сопровождало меня все мое детство. Скажем, курить — мне внушали — очень плохо: просто потому, что невероятно вредно. Но ради какой высокой цели весь этот ЗОЖ? Ответа на данный вопрос я не улавливал. И — из чувства противоречия, а, может быть, желая походить на хиппующего аскета-философа или предугадав христианское «здоровье ценностью не является», — придерживался не столько диета-велосипед-йога-плавание, сколько образа жизни, главный компонент которого «здоровье ценностью не является».
Считать так человеку просто, когда того в избытке. Или — когда преодолен страх и найден смысл.
Бурунзин все то время, пока я был погружен в свою рефлексию, продолжал рассказывать о том, как он когда-то в Ленинграде кучеряво жил.
─ Знаешь, где у меня была квартира?!
Мое сознание возобновило фиксацию смыслов, звучащих в густом табачном дыму.
─ Где?
─ На Московском проспекте. В пяти комнатах! И в начале восьмидесятых я себе иномарку купил. «Ауди», между прочим… А в молодости, в начале семидесятых! Помню посиделки на ступенях Инженерного замка. Как ни придешь, там Мишка Науменко, Борька Гребенщиков. Они моложе были, я их и не воспринимал тогда серьезно. Да и кто их знал тогда!
Зоя Германовна, преподававшая нам русский и литературу, красившаяся и пудрившаяся, как цирковой клоун, перед Пасхой грозила:
─ Я живу напротив. С моего балкона отлично видно, кто в собор входит…
Историчка Леопольда Викторовна регулярно сообщала, что коммунизм непременно будет построен, причем довольно скоро. Сохраняла оптимизм даже в 1988 году, когда ЦК КПСС на это уже не надеялся. Редко вытиравший сопли Ватрушкин, когда на арену выходила облаченная в хемингуэевский свитер Леопольда Викторовна, расплывался в сопливой улыбке: это был единственный урок, на котором ему не было скучно. Древняя Греция, Средневековье, Великая Отечественная…
Серые (в целом) будни советской десятилетки немного скрашивала надевавшая интересные блузки и юбки, недавно окончившая местный пединститут учительница. Нина Всеволодовна вела в нашей школе ботанику, зоологию, биологию, анатомию и прочее природоведение.
Рюря и Ватруха, когда она проходила между рядами, изучали конструкцию застежки не самого примитивного лифчика.
Фуфа, заглянувший как-то учительнице под юбку, утверждал: у зооботанички чулки пристегнуты к поясу.
─ Может, это трусы такие? — сомневался Ватрушкин.
В школе знания не только в рамках школьной программы получают. Однажды Пентагон стянул у своего отца пачку черно-белых порнографических фотокарточек. Одна из срамных картинок несколько уроков провисела под стеклом рядом с кабинетом директора — какой-то весельчак впихнул поверх школьной стенгазеты.
Классе в седьмом все начали «ходить» и «дружить». В восьмом кто-то уже и родил даже. У Оксанки Крупской был покровитель (на два класса старше). По крайней мере, та называла его своим заступником. За барышень в нашей школе почему-то всегда кто-то «заступался».
Ее подруга Ленка, не имея такой крыши или, наоборот, имея таковую, попала в какую-то нехорошую историю. Вид у нее был отчего-то виноватый, а у Фуфелкина — ехидный, когда он ей на что-то намекал.
─ За меня заступятся, — не слишком уверенно, но и не без гордости говорила Юлька Жетонова.
─ Пыль, грязь, ни одного театра, краеведческий музей, несколько библиотек, в которых половина фонда — работы Ленина, Маркса, Энгельса, а также подшивки газеты «Правда». Однажды, уже и перестройка прошла, кажется, я в центральной библиотеке Драчен спросил (без особой надежды) что-нибудь… Маркеса. Библиотекарша кивнула в сторону стеллажей, стоящих на самом почетном месте, и гордо сообщила: «Все есть», — живописал я Петровичу «ужасы нашего городка».
─ Там стояло полное собрание сочинений Маркса… — догадался Бурунзин.
В восьмом каждый решал: переходить в девятый и, после окончания десятилетки, поступать в вуз или, оставив школу, продолжать обучение в профессионально-техническом училище или техникуме. Я, Сидоров, Кактусов, другие переходящие в девятый класс планировали получать высшее образование.
Наши гопнички, включая гоп-барышень, весь восьмой класс, начав уже в седьмом, мечтали о том, как они заживут «нормальной взрослой» жизнью. В ПТУ можно почти не учиться — диплом все равно получишь, можно курить, пить алкоголь, вступать в половые связи. ПТУ — не школа, в которой остаются учиться рахитичные ботаны.
Мы тогда, кажется, догадывались, что олицетворяем разные системы ценностей, а в отдельных случаях, так и вообще — знание реальной жизни и бегство от нее.
Отец во время наших с ним совместных прогулок по городу и вылазок на природу довольно подробно пересказывал мне свои любимые книги. Начал с «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и приключений Шерлока Холмса. К десяти-одиннадцати годам я уже ориентировался в мировой художественной литературе, поскольку прослушал в отцовской интерпретации немало произведений Гоголя, Дойла, Хемингуэя, Бальзака…
О великом множестве исторических событий, о том, какая рыба обитает в окрестных прудах и речках, на что и когда клюет, о выходе первого человека — советского гражданина Леонова — в открытый космос, о жизни Бальзака, Фадеева и Льва Толстого, о судьбе Робертино Лорети, о том, как устроен трактор, танк, транзисторный радиоприемник, самолет, я услышал впервые именно от отца.
Но внушительный, для того возраста, объем информации, в основном неведомый Ватрухе (его отец проводил досуг исключительно в компании себе подобных, сдабривая беседу недорогим спиртным), не отменял ряда установок, полученных одноклассником в редкие периоды папашиной трезвости.
Ватруха с раннего детства был посвящен в брутальный мачизм.
Рюря класса с седьмого открыто курил, таскал с собой мафон, редко стригся. Торчащие из-за ушей сальные локоны придавали Леньке отдаленное сходство с мушкетером короля. Круглого отличника Лешку Сидорова Рюрькин приветствовал перед уроками часто так:
─ Ну что, Сидор, опять все уроки выучил?
Лицо Рюри парадоксальным образом фиксировало при этом противоположный смысл: «Что ж ты, тупица такая, снова уроки не выучил!»
Выученные на пять баллов домашние задания Рюря искренне считал моветоном.
─ Да не, — бессовестно врал Лешка, — я вчера до двенадцати телек смотрел.
Рюря разглядывал «наглого» Сидора, сам вид которого говорил: полное собрание сочинений Джека Лондона прочитал, теперь за «Дым» Тургенева принялся. Ленчик знал: Лешка отвратительно лжет — в отличие от него, гонявшего до полуночи мяч на футбольном поле за домом, учил классный ботан, учил, сволочь, уроки!
Жизнь шла своим чередом: Сидоров получал пятерку, Рюря — пару. Лешка шел на золотую, она была нужна, чтобы сдавать на вступительных в престижнейший Московский физико-технический институт один первый экзамен.
Я, скорее всего, никогда бы не узнал, что Сидоров занимается сразу на двух заочных подготовительных курсах, если б не Кактусов, поведавший однажды, что готовится так в областной Политех.
─ Подумаешь! Я уже второй год задания по почте из Физтеха и Бауманки получаю, — спалился Лешка.
Много лет спустя, повышая квалификацию в одном из американских университетов, Сидоров, на вопрос, легко ли грызть гранит науки на английском, отвечал:
─ Почти ни на одной лекции не был!
Давно уже не нужно было мимикрировать, стараясь казаться хуже, чем есть, но привычка осталась.
Никогда Рюря не упрекал за выученные уроки бугая Аркашу. Тот их редко учил. К оценкам Аркаша относился философски, но стремился к мировой гармонии. Для этого ему своими пальцами-сардельками с грязной каймой надо было ломать все подвернувшееся под руку: чужие линейки, ручки, карандаши, школьную мебель. Он порой разламывал на мелкие части даже собственные ручки и карандаши.
Во мне говорит какая-то старая обида. Аркаша наверняка когда-то, сто лет назад, запустил моим учебником в мощную спину Крупской, и мне потом пришлось порванную книгу склеивать. В моем распоряжении были моря, океаны, дальние страны, экзотические острова, открытые мне Дефо, Стивенсоном, Ж. Верном… У Аркаши внутренний полет зависел от внешнего вандализма. Он жил в реальности.
Как-то в отношении Аркаши, пытающегося сокрушить дверь гардероба, — грохот разносился по всему первому этажу — я позволил себе резкую оценку:
─ Ну ты и дурак!
Оказавшийся неподалеку Рюря возмутился:
─ А ты сам-то умный, что ли?
А как же, я наивно считал себя умным. Оказавшись за дверью квартиры, в своем воображении я продолжал путешествие на одном из пяти кораблей командора Магеллана.
Даже «Шизгару» какую-нибудь в Драченах знали мало и понимали плохо. Народ предпочитал блатняк и разную примитивную попсу. Дельтовский спекулянт-меломан мог записать за деньги «Венеру» ВИА «Шокирующий синий», но о содержании песни даже он, мотающийся раз в месяц в Москву продвинутый фарцовщик, не имел и отдаленного представления. Смешно сказать, молодые парни на «Дельте», которым в самую пору, казалось бы, балдеть от «Металлики» и «Гражданской обороны», тащились от Журавлевой и Добрынина!
В то же время американские джинсы, японская магнитола, гамка, колбаса прочно засели в сознании почти всякого «строителя коммунизма», в том числе провинциального. Да, ассортимент продуктов и промтоваров — от сарделек до кроссовок — снабжение! — в Драченах внушал пессимизм (прекрасные колбасные изделия производились на местном мясокомбинате, покупать их ездили в Москву). Но народ, так или иначе, умудрялся приобщиться к «благам цивилизации». Зайдя однажды к Игорьку Кубикову, обнаружил у того дома кучу настоящей японской жвачки. Какой-то родственник из загранплавания привез. Наш учитель музыки съездил в ГДР, после этого года два в режиме нон-стоп жевал резинку. Ну, джинсы, само собой. Однажды встретил его с дочкой — оба в джинсах, оба жуют… Люди стремились к прекрасному…
Одним из талантов Леньки Рюрькина было умение рисовать логотипы популярных брендов. Запечатлеть такую красоту он мог на последней странице тетради, на портфеле, на парте, на руке, на стене… Когда советское телевидение в очередной раз демонстрировало популярный шпионский сериал «Семнадцать мгновений весны», часть одноклассников стала изображать фашистов. Несколько советских школьников хотели быть похожими на носивших красивую черную форму офицеров-нацистов. Рюря «напечатал» шариковой ручкой «аусвайсы» пропахшему табачным дымом Фуфелкину (Попляков сказал, что он «за наших»); постоянно покрытому испариной — косая сажень в плечах — Аркаше; ставшему, кажется, иногда высмаркиваться Ватрушкину. Конечно, старательно нарисовал и собственный «аусвайс», представляя себя чуть ли не главным эсэсовцем… На переменах пацаны по-нацистски приветствовали друг друга. Они были в восторге от дизайна формы. Это была «красота», которой им, да и их родителям, так не хватало в окружающей жизни, в советском ширпотребе. Смыслы, несмотря на усиленную пропаганду советских ценностей по телевизору, на улице, в школе, Рюрю и Ватруху трогали мало. «Промывка мозгов» граждан СССР давно уже происходила вхолостую. Уроки исторички с элементами патриотического воспитания, а еще больше — рассказы военрука о его участии в Сталинградской битве, пользовались популярностью, однако были каплей в океане консюмеризма, затопившего мозг советского обывателя.
─ У нас, помню, на первом курсе все на повышенную стипендию экзамены сдавали, а на втором — сессию не завалил — и ладно. В третьем и четвертом семестрах столько вина было выпито! — вспоминал отец Сидорова свое лихое студенчество.
Я тогда был с визитом в лешкиной общаге. Сидор поступил не в МФТИ, а на экономфак МГУ, который больше отвечал потребностям накрывающего страну дикого капитализма.
К нему, находясь в Москве в командировке, заглянул отец.
─ Поехали в ресторан, — приглашает папа сына.
Идем на трамвайную остановку. Мне в миитовскую общагу — до метро — по пути.
─ В районе Павелецкого вокзала есть что-нибудь? — Сидорову-старшему через четыре часа надо на поезд. — Поедим нормально. Может, по рюмке… В поезде услышал анекдот…
Мой отец анекдотов «про Хулио» не рассказывал, выпить по рюмке, будучи убежденным трезвенником, не предлагал. Мама, провожая на построенном при царе-батюшке вокзале, внушала:
─ Будь хорошим человеком! Учись на пятерки! Ни с кем не ссорься!
А я не понимал, как это «быть хорошим человеком». Что для этого, кроме отличных отметок, надо? Не ссориться ни с кем? А если в моей комнате некоторые перепутавшие день с ночью студенты свет до четырех утра не гасят, а на занятия надо вставать в 7:30?
Помню, — я только что стал иногородним студентом, — сидим с отцом на станции метро «Парк культуры».
Мимо нашей лавки проносится состав. Гул огромной массы и грохот колес улетают в тоннель.
─ Спрашивай, что непонятно, — говорит и даже немного требует отец.
Он в Москве проездом, всего несколько часов. Они с матерью очень волнуются, как я и что — в общежитии, в институте.
А в моей студенческой жизни много нового. И что-то в этой реальности грубее, что-то интереснее.
Кровать — неудобная железная сетка.
Комната — проходной двор.
Даже среди первокурсников хватает тех, кто значительно старше, после армии.
Если к часу ночи все успокоились, это для меня большое везение (не понимаю, как кто-то умудряется выспаться за три-четыре часа, укладываясь уже под утро). Не позже 9:50 надо быть в институте. Лабораторные же по химии вообще в восемь начинаются, потому я три из них проспал. Если с параллельной группой не сделаю, к сессии не допустят.
Нормально поесть получается далеко не каждый день. Часто весь мой рацион — это черный хлеб, чай, яблоко. Иногда белый хлеб с молоком из пакета. Изредка, в виде исключения, хожу с кем-нибудь в пельменную, но вообще там недешево.
В этот свой приезд отец сводил меня в пирожковую на Кузнецком. Там сейчас модные дорогие забегаловки. А тогда — два вида пожаренных на масле пирожков и кофе с молоком в граненом стакане. Столы высокие, за каждым плечом к плечу стоит несколько человек. Туалета нет, вместо салфеток резаная бумага… Дома, конечно, сытнее и комфортнее.
Но Москва — огромный мир, интересный сам по себе. А в конце восьмидесятых в столице больше, чем где-либо в Советском Союзе, ощущается оживление политической жизни. Даже самые зацикленные на колбасе обыватели нет-нет, да и сорвутся:
─ Культ личности!
─ Годы застоя!
─ Перманентная революция!
«Перемен! Мы ждем перемен!» — вторят им сотни тысяч магнитофонов.
После семнадцати лет жизни в Драченах, я впервые имею возможность не отчитываться перед родителями, что я и как.
Взял, например, и поехал с кем-нибудь на Арбат, где уличные музыканты. Или на Пушку, где власть до сорванных связок попрекают спецпайками.
Или — почему бы и нет? — отправился с кем-нибудь из однокурсников в кино: на экранах столицы «Маленькая Вера»!
Нередко я беру с кем-нибудь недорогие билеты в Ленком или Художественный.
Один из вариантов досуга: захватив гитару, пойти к кубинцу на четвертый этаж, есть вероятность, что симпатичная кубинка заглянет на огонек.
Обитатели общаги не только учатся. Они выпивают, на свиданки ходят. Часто и далеко идти не надо. Половина обитателей шестнадцатиэтажной общаги — молодые женщины.
─ Спрашивай, что непонятно…
Я ни о чем не спрашиваю. Поставлена слишком абстрактная задача. Мне в мои семнадцать лет почти все непонятно, я даже не знаю, за что зацепиться. Есть какие-то моменты, о которых я бы спросил, но…
─ Спрашивай, что непонятно…
Будучи, кажется, восьмиклассником, смотрел с родителями в кинотеатре чехословацкую, в общем-то — абсолютно невинную, комедию «Конец агента».
Когда «суперагент» расстегивал экранной блондинке бюстгальтер, по-моему, нам всем стало неловко.
─ Спрашивай…
Молчу. А что сказать-то?
Подходит следующий метропоезд…
Если я признаюсь, что лабораторки по химии пропустил, отец не скажет:
─ Я на втором курсе три раза сопромат сдавал.
Знаю, что у бати выражение лица станет еще более тревожным; он тут же примется внушать:
─ Обязательно, сегодня же, как придешь, первым делом, прочитай по этим темам учебник, а завтра выясни, когда можно сделать с другой группой. Не откладывай. Понял?
И взгляд в глаза.
─ Понял?!
Ну как тут скажешь: «Не понял»?
─ Понял.
Я понимаю, что надо сдать лабораторки, потому что иначе — невыход на сессию. А ее несдача, весьма возможно, означает пополнение рядов Советской армии.
Мне неприятно, что мы чего-то боимся. А еще я понимаю: одних зачетов и «отлично», чтобы все было действительно отлично, явно недостаточно.
Подходит следующий метропоезд. Постояв, улетает в тоннель.
Мы довольно долго сидим на «Парке культуры».
Память моя вынимает из своего архива, по какому-то неведомому мне принципу систематизированного, эпизод.
Я, семилетний, сидя на детском сиденье на раме папиного велосипеда, под защитой его сильной спины, плеч, рук, мчу под горку, вцепившись ручонками в самодельные грипсы — намотанную в двух местах на руль «Десны» изоляционную ленту.
Мы едем на рыбалку. До речки уже недалеко.
Дорога под горку, раннее — нет еще и пяти — утро, из машин — редкие поливающие водой улицы автоцистерны — и мы несемся с огромной, на какую только способен съезжающий с крутой горы велосипед, скоростью.
Пожалуй, не будет преувеличением сказать: до пубертатного периода отец — мой абсолютный кумир.
В Московский институт инженеров транспорта определили меня родители, считая, что я буду придерживаться стиля «учиться, учиться, учиться», выведшего в люди не одного только Максима Горького.
Как они решились отправить домашнего мальчика Федю в столицу?
Думаю, мама уповала на то, что ее главное наставление «Ни в коем случае никуда не лезь!» живет во мне на уровне всех существующих в человеческом организме рефлексов и является своеобразным залогом будущего успеха.
И не то чтобы я куда-то особенно лез. Мне просто очень нравился рок-н-ролл. Я восхищался профессиональными музыкантами, журналистами, телеведущими, звукорежиссерами, звукооператорами и даже рабочими сцены, потому что они работали в Рок-н-ролле! Эти люди занимались Искусством!
В первые месяцы в Москве (мне едва исполнилось восемнадцать) я приобрел в арбатском зоомагазине хомяка, не желая себе признаться в том, что подражаю Робертовичу.
У длинноволосого студента из Питера, которого все звали, делая ударение, как кому нравится, жила белая лабораторная крыса — Хомичус.
«Классный чувак» появился в нашей общаге для вписки на найт вместе с животным в декабре того года, когда я поступил в МИИТ. Голову странника венчала жокейская шапочка. В Драченах юноша в таком головном уборе быстро получил бы по ушам.
Вместе с Робертовичем и его крысой приехала двенадцатиструнная акустическая гитара в черном матерчатом чехле. Ручной багаж романтика состоял из армейского вещмешка. Робертович держал в нем пропахший вагонными рундуками скарб: корм для Хомичуса, несколько книг, комплект струн.
Робертович был облачен в соответствующий образу советского рокера растянутый «бабушкин» свитер и самопальные брюки-клеш.
Ночевать ему пришлось в спортзале, где поздно вечером он дал незапланированный концерт.
За окнами — густой декабрьский снегопад. Публика — на матах. Всего нас человек восемь-девять. Разливаем в стаканы туркменское вино, купленное у приторговывающего спиртным кубинца с четвертого этажа.
Кто-то обсуждает житейские проблемы:
─ «Останкинская» — по два девяноста. Но лучше «Студенческую» за два двадцать…
─ Робертович, спой что-нибудь обидное, — просит студент-казах, похоже, курнувший чего-то казахского.
«Классный чувак» быстро, с достоинством, подтягивает струны слегка расстроенного инструмента (ночь гитара провела в поезде Таллин — Москва).
Кто-то бубнит:
─ В «Свет» почаще заглядывай. Там кипятильники и утюги выбрасывают. Купил, полякам скинул…
Робертович ударяет по струнам и поет:
В подобную ночь мое любимое слово «налей»…
У него здорово получается копировать БГ.
И «Зоопарк»:
Я был невинен как младенец, скромен как монах,
Пока в ту ночь я не увидел…
В этом месте Робертович особенно живо трясет немытым хайром.
Страх-трах-трах в твоих глазах!!
В голых стенах спортзала двенадцатиструнная гитара дает эффект стадионного рок-концерта.
Робертович, довольный своим успехом, продолжает исполнять хиты ленинградского рока с еще большим накалом.
Теперь, из-за эха, до нас долетают только обрывки рок-н-ролльных куплетов:
…клубами плавал никотин
И к концу подходил…
Я смотрю на поцарапанную деку ленинградской двенадцатиструнки и слушаю, впитываю образы изломанной, и почему-то невероятно привлекательной жизни:
Я видел чудеса обеих столиц:
Святых без рук и женщин без лиц.
Я хочу прожить ближайшие годы так, чтобы потом можно было с полным правом говорить: «Видел чудеса обеих столиц».
От выпитого туркменского вина и скуренной самокрутки Робертович вдруг побелел лицом.
Как-то странно на всех посмотрев и добежав до туалета, «классный чувак» стал мучительно изрыгать съеденные на ужин сосиски. Согнувшись пополам и держась за живот обеими руками, дотащился до мата и упал на выданное ему благодарной аудиторией казенное одеяло.
Через час-полтора многим уже надо было отправляться в институт на первую пару.
«Как бы хорошо, — думал я тогда, — жить так, как Робертович. Переезжать из города в город с одной гитарой, останавливаться у знакомых, зависать в сквотах, что-то сочинять, петь, музицировать, выпивать с интересными личностями».
Перекати-поле, который в каком-нибудь средненьком голливудском кино выглядит, может быть, и симпатично (там научились красиво изображать бредущего по обочине бродягу), был долгое время, смешно сказать, неким привлекательным для меня образом. А для провинциала в Москве подобные «идеалы» — непозволительная роскошь. С такими установками в чужом большом городе можно и не выжить. Прошел не один год, прежде чем я выбросил розовые очки. Я даже помню, где это произошло. На площади перед входом в станцию метро «Баррикадная».
Конец отрывка повести
Москва, 2015—2018
ГОРЬКОСТИ ДЕТСТВА
Какой-то голос мне скомандовал тогда:
─ Арль!
И вроде как этим все было сказано: что Арль, почему Арль…
Я прожил в нем несколько месяцев. Из моего окна были видны крыши старинных домов и даже краешек древнего римского амфитеатра. Осенью 1888 года Гоген — известный эпизод — два месяца жил в «желтом доме», в «мастерской юга» Ван Гога. Оба художника намеренно выбирали одни и те же сюжеты: проверяли таким образом разные теории.
Это можно увидеть на полотнах Гогена и Ван Гога, запечатлевших виноградник, ночное кафе, один из самых красивых и старых христианских некрополей.
Кажется, я хорошо представлял себе, какими глазами смотрели обыватели провансальского захолустья на художников вроде Винсента Ван Гога и Поля Гогена, — плохо одетые и скверно питающиеся бродяги, живущие неустроенной бессемейной жизнью, — я и сам примерил эту шкуру. На живописцев часто смотрят с недоверием и легким презрением. Взрослые, занимающиеся чем-то несерьезным, мужики.
Немало я прошел километров по окрестностям Арля. Несколько раз в жарком полуденном зное, идя по полю, встречал испуганного чем-то Ван Гога. Как-то обогнал бредущую по пыльной обочине массивную фигуру Гогена.
С Ивом Рэнглером я познакомился в Арле, охотясь с этюдником за пейзажами.
Вдохновленный его оценкой моих работ, после нескольких трудовых месяцев в Провансе, перебрался в Париж, где вместе с мольбертом и ноутбуком законсервировался в квартирке эмигрантского Сен-Дени.
Под окнами — восточный базар. Но я там, как правило, редко из дома выходил. За хлебом, молоком, сигаретами в супермаркет наведался — и все.
Ко мне в Сен-Дени кроме Рэнглера никто никогда не приезжал. Да и мне было неловко в неряшливую и неуютную квартиру приглашать знакомых девиц. Хотя их у меня тогда и не было. К тому же я был влюблен в начинающую актрису Летицию.
Ив Рэнглер (ему хорошо за сорок) — из тех, о ком говорят: метр с кепкой. Настоящая фамилия Мартен. Неряшливым размашистым почерком живописец на каждой своей картине оставляет фирменный росчерк: Yves Wrangler.
Когда-то, из-за того, что он постоянно спорил, отчаянные бойцы-фанаты — hools футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» — прозвали художника Рэнглером.
Вчера мы сидели в студии Ива на площади Альма за двенадцатилетним односолодовым виски. Бледно-голубой фон огромного окна, возле которого мы устроились, рассекала светло-коричневая Эйфелева башня. Художник, уловив неподдельное внимание, неспешный интерес, которых так мало осталось в мегаполисах, рассказывал о своей жизни.
Детство выросшего по другую сторону Ла-Манша француза прошло в семидесятые годы в Манчестере. Отчим-англичанин — человек недалекий и грубый, когда, по его мнению, пасынок был виноват, награждал того тумаками. По словам моего старшего друга, за свой крайне низкий рост спасибо он может сказать именно отчиму. Впрочем, и матери — тоже.
Натянув заляпанный масляными красками берет с пятиконечной звездой, делавший Рэнглера похожим на известного латиноамериканского камрада, художник курил бесконечную трубку. Когда табак в ней гас, Ив щелкал специальной зажигалкой, затягивался и на время про трубку забывал.
От матери, по словам Рэнглера, он тоже получил немало оплеух.
─ Они с отчимом словно соревновались, — откровенничал художник. — Не знаю, хотела ли она намеренно подавить мое «я». «Шелковый у меня будешь!» — слышал от нее регулярно. Не раз, не два в кабинетах манчестерских педиатров матери обо мне говорили: «Он у вас вялый». А мать, кажется, недоумевала: с чего бы это? Как будто могло быть иначе!
Слушая Рэнглера, вспоминаю, как моя мать о шалопае Юлеке из моего класса говорила:
─ Ужас, Яцек, за ним родители совсем не смотрят!
Я же, глядя на самодовольного, словно звезда Голливуда, Юлека, не мог не прийти к кощунственному выводу. Да, его мать и отец занимают куда более скромное положение на социальной лестнице, чем мои, да, у меня намного лучше с успеваемостью, — но все это не мешает Юлеку стабильно демонстрировать веселую рожу…
За окном стемнело. Надо было возвращаться к себе, на улицу Шато д`О, где я с недавних пор жил.
─ Да побудь еще, Жак! — Обращаясь ко мне Ив использовал французский эквивалент моего имени. — Хочешь кофе? У меня еще круассаны остались.
Покидать уютное ателье Рэнглера, выходить на шумные парижские улицы, брести до станции метро — не очень-то и хотелось…
─ Отчим, — рассказывал Ив, ставя передо мной двойной эспрессо, — замахиваясь и видя, что я сжался и дрожу, всегда обязательно жестко, резюмировал: «У-у, трус!» Удара могло и не последовать. Я был как дрессированная собачка. Получив ранее бессчетное количество затрещин и пинков, теперь пугливо реагировал уже на один только замах. А отчим непременно констатировал: «Трус». Я привык к мысли о своей ущербности, та вросла в меня своими корнями. Если бы не мой сосед, мой друг, с которым я стал ходить на футбольные матчи «Юнайтед», драться с фанатами других команд, — Ив неосознанно провел указательным пальцем по длинному, берущему начало на подбородке, шраму, — так, скорее всего, с этим ощущением и жил бы. Я раздавил этот страх окончательно в той драке, когда толпа «синих» нас четверых волтузила по тротуарной плитке недалеко от их поганого «Стэмфорд Бридж». Достаточно сказать, Жак, что из нашей четверки тогда живым остался только я. Это была скорее случайность. Очнулся в больнице только на четвертый день. И один час всего был в сознании. Потом еще дня два без сознания…
─ А что твой отец?
─ Он — француз. Живет в Лондоне. Я бывал у него дома, когда он уже бросил мать. Жил у папаши несколько раз неделю-другую… Когда сбегал из Манчестера от отчима с матерью. Когда на матч с «Вест Хэм» приезжал… От моей матери он периодически получал подзатыльники — буквально, Жак! — и бросил ее, что вполне объяснимо. Однажды, еще в девяностых, отец, имевший тогда маленькое агентство недвижимости, приезжал в Париж, чтобы убедить меня расстаться с «богемной жизнью». Предлагал работу в своем лондонском офисе. Помню, шли с ним по Елисейским полям. Разговаривали, молчали. Я пил на ходу из банки пиво, курил сигарету — и услышал от него что-то на тему здорового образа жизни… Меня прорвало. Про его подкаблучничество, про его бегство, про то, что обязательно стану, вопреки всем его сомнениям, большим художником, — все разом на него вывалил. Прохожие — мы, кажется, подходили к Триумфальной арке — смотрели на нас, как на психов. На площади Этуаль он сел в такси и укатил.
Я заглянул в опустевшую кофейную чашку.
─ Ив, я поеду.
─ Ты же теперь на бульваре Мажента живешь? Недалеко от Северного вокзала?
─ Ближе к площади Республики. Уже в любом случае очень поздно. — Направляюсь к двери.
─ Жак! Забыл сказать… По-моему, ты зря бросил живопись. У тебя в последнее время стало получаться что-то свое…
Меня довольно долго доставал Юлек, предлагал подраться и выяснить, кто сильнее. Я не мог отказаться от этой дуэли. Мой классный рейтинг и так в ту пору сильно упал. Юлек не был сильнее меня. Задиристее, но не сильнее.
Я принял вызов. Дрались после уроков без секундантов недалеко от школы, в переулке. Состоялся обмен синяками. Юлек получил не меньше моего и задирать меня в будущем явно расхотел. На следующий день ему предстояло выдержать вал насмешек в связи с «фонарем», который я поставил. Мой находившийся на катастрофических уровнях рейтинг, похоже, существенно подрос.
В глубине души надеялся: мать не станет ругать за то, что я защищал свою честь. Дома, однако, ждало разочарование. Увидев на моем лице синяк, пропуская мимо ушей мои разъяснения, родительница наподдала еще. Пришедший с работы отец разбираться, почему я дрался, что произошло, не стал. Может быть, это была очень тонкая внутрисемейная дипломатия. Возможно, отец подумал: «Получил от матери по шее? Значит, было за что».
Однажды мы с моей подругой — француженкой Симоной — и матерью гуляли по Иерусалимской улице, говорили о разном.
─ Они с Малгожатой, — сказала мать, обращаясь к Симоне и имея в виду меня и мою сестру, — думают, что, если бы я их мягче воспитывала, они б в жизни лучше устроились.
Потом уже тише и вроде бы невпопад добавила:
─ Да я и не наказывала почти. Не помню…
К тому времени я уже давно понимал, что мама очень хотела мне добра, невероятно много делала для своих детей, ей часто было действительно трудно, при этом она не всегда понимала, что перегибает со строгостью. С одной стороны, просто не знала о том, что перед ней чувствительные, ранимые ребятишки. С другой, мама выросла в такой среде, в которой тычки и ругань в отношении детей — какой-то особенной грубостью и не считались. Отец же, наоборот, был слишком мягким человеком.
Однажды — мне семь, Малгожате одиннадцать — мать как-то наказала сестру. Маленькая блондинка рыдала. Мне было ее очень жаль. У меня у самого полились слезы. Я по-детски неловко обнял Малгожату. Гладил по голове, по блестящим на солнце волосам сказочной принцессы, утешал:
─ Когда вырасту, я на тебе женюсь.
Рыдая, Малгожата дала взвешенный комментарий:
─ Братья и сестры не женятся.
…Возвращаюсь из Бове, был у сестры. В гостях подкрепился журеком, голубцами и порцией фирменного скепсиса Малгожаты.
Через два дня экзамен, а я беспечно езжу по гостям. Вчера у Ива за разговорами день прошел. Вернувшись из его студии, засел за учебники на всю ночь. Утром поехал в Бове. Сейчас 14:25, хочется спать… Скоро будет Северный вокзал, минут через десять, не больше, выходить, а я проваливаюсь в сон…
Звонит мобильник. Решаю ответить, не выходя в тамбур: пассажиры с соседних мест уже туда ушли — мы подъезжаем к Северному вокзалу.
─ Привет! — Это Поль, знакомый марксист-троцкист-антиглобалист, в следующем году он заканчивает исторический. — Звоню, чтобы предупредить — мы вернулись. Пробудем дня три и снова уедем. Как твои дела?
─ Прекрасно! Я подъезжаю к Северному вокзалу, скоро буду.
Квартиру на улице Шато д`О, где я сейчас живу, Поль предоставил мне в безвозмездное пользование на все лето. Он на пять лет меня старше (мне — двадцать три), мы неплохо ладим.
Поль участвовал в военных спецоперациях в Афганистане. Говорит, убедившись в том, что французская армия редко действует в интересах своей страны, военную карьеру оставил.
Я люблю с ним поболтать, хоть Поль и посмеивается над моим акцентом. Франция — страна иммигрантов, здесь чисто говорит теперь не так уж много народу…
Полгода назад в Марселе — на платформе Витроль — какой-то грозного вида мужик упрекнул меня в отсутствии… вежливости! Слово politesse он произнес даже дважды. Рэнглер, с которым мы возвращались после трехдневного пребывания в Арле (я поехал с Ивом на этюды), в самолете посмеивался:
─ Он тебе хотел помочь вытащить из вагона рюкзак и этюдник, а ты на него, как на гангстера уставился, ха-ха…
А все — почему? Да я просто не понял его идеального французского, когда он ко мне обратился!
─ Давайте подкрепимся чем-нибудь! — Милана, подруга Поля, открывает холодильник, на одной из боковых стенок которого прикреплен большой постер субкоманданте Маркоса.
Символ антиглобализма внимательно смотрит на нас в прорезь своей pasamontanas, из его трубки вьется дымок…
Сербка извлекает паштет, масло, сыр, бутылку белого вина…
─ Прекрасно. — Поль, кажется, удивлен моей запасливостью. — Мне багет с сыром! А ветчина есть?
─ В магазине.
─ Перекусим и сходим…
─ Выпьем за наш приезд!
Сноровистая Милана уже наполнила винные бокалы. Делаем по глотку.
Смотрю на парочку и думаю: какие все-таки счастливые люди!
─ Мы на недельку в Нови-Сад, а потом… — Поль посмотрел на Милану. — Куда мы собирались, не помнишь?
─ Не-а! Я выпила — и плохо соображаю.
─ Это так по-славянски — выпить и не помнить сказанное час назад!
─ И ты, — в ответ ласково пожурила Поля Милана, — не помнишь.
─ М-да… Это как-то не по-французски.
Всех развеселил оборот «как-то не по-французски».
Мы выпиваем еще по бокалу вина. Веселье, с элементами славянской бесшабашности, подступает неумолимо.
─ Поль, тебя родители били? — спрашиваю.
Студент Сорбонны явно не ожидал такого вопроса, но отвечает:
─ Яцек, побойся Бога! Когда я родился, средневековые нравы уже успели изрядно смягчиться.
─ Поль, зови меня Жаком. А то Яцек — как-то комично звучит в твоих устах. И ты, Милана, зови меня Жаком. Кстати, тебе доставалось от родителей?
─ Ну… иногда как-то наказывали, но бить не били. — Сербка, выросшая в Нови-Саде, наморщила лоб: как будто пытается что-то вспомнить. — Почему спрашиваешь?
─ Одного знакомого художника били мать, отчим… Стало интересно, у кого как с этим. Может, диссертацию напишу.
─ Как интересно!
─ Ну да, «Подавление личности в семье и в обществе».
─ Ха-ха-ха…
Хрустальный смех молодой женщины разливается по квартире, преодолев гостиную, гаснет в прихожей, у входной двери.
─ Жак, ты читал «Детство» Горького? — У Поля какая-то идея.
─ Только «Фому Гордеева».
─ В «Детстве» есть очень точно на эту тему. Сейчас, Жак, я найду…
Поль запрыгивает на письменный стол — так он достает до самой верхней полки стеллажа — и извлекает потрепанную книгу, на обложке которой крупно набрано: «Maxime Gorki. Enfance».
─ Открыв один из его рассказов, сейчас не помню, какой, — сообщает нам Поль, — прочитал потом Горького все, что нашел на французском.
─ Что ни книга, то призыв к революции! — замечает Милана, оторвавшись от приготовления сэндвичей.
Участник афганских спецопераций листает книгу Горького. Находит нужную страницу. Смотрит на меня.
─ Нашел. Слушай. Дед, после того, как он маленького Алешу сильно выпорол, приходит к тому и говорит: «Ты знай: когда свой, родной бьет, — это не обида, а наука! Чужому не давайся, а свой ничего! Ты думаешь, меня не били? Меня, Олеша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что, поди-ка, сам господь бог глядел — плакал! А что вышло? Сирота, нищей матери сын, я вот дошел до своего места, — старшиной цеховым сделан, начальник людям».
─ Границ четких нет, измерителя — вроде градусника — нет. — Меня уже несет. Мало спал, выпил… Я не замолкаю. — Сколько чего — неизвестно. Пропорции — какие? Если б хоть примерно представлять. Все перемешано. И сентиментальность, и агрессия, и душевная щедрость, и мягкость, и твердость — такой коктейль, что ого-го! Были с матерью у окулиста. Перед тем, как мне в школу идти. Там таблица эта. Знаешь. Врачиха тычет указкой в рисунок — я называю, что там. Про некоторые изображения я просто не знал, что это такое: какой-то придурок нарисовал для этой таблицы нечто ни на что не похожее. В результате мне был поставлен диагноз «близорукость». Прописали очки и заставили носить, что для нормального зрения, конечно, вредно.
─ Жак, а почему ты не сказал, что не понимаешь, что там изображено?
─ Потому, Милана, что я стеснялся врачихи, как и всех людей вообще! Потому что боялся матери. Лишний раз лучше помалкивать, так мне внушили. Но я ж тебе и говорю сейчас. Почему к человеку надо относиться так, будто он все должен знать, уметь, только потому, что этот человек — мать, отец, старшая сестра?
─ Твой отец, как я понимаю, тоже далек от идеала! — Подруга Поля считает своих родителей идеальными только потому, что никогда серьезно не задумывалась над тем, какие они на самом деле. Многие знания — многие печали.
─ Милана, мы все далеки от идеала. И, само собой, наши отцы — тоже. Папаша моего одноклассника Юлека грабил ночные поезда, в основном — идущие по ветке Москва — Варшава. Ночью c напарником врывался, по наводке проводника, в купе и тряс богатых туристов и мелких торгашей. Даже акселерата Юлека с собой брал. Тому пятнадцать было, когда ветеран, герой Советского Союза, продырявил грабителей из их же «беретты».
─ Жак, ты боевик пересказываешь?
─ Это жизнь, Милана! О жизни в Польше тебе рассказываю. Абсолютно седой, весь в пигментных пятнах, застиранной майке и заштопанных тренировочных штанах дед этот приподнялся с нижней полки и — хоп! — папа Юлека обезоружен, а пистолет смотрит в его сторону. Сам Юлек за отцом стоял и из оружия имел кулаки, баллончик с каким-то газом и наглую рожу. В общем, одной пулей едва проснувшийся герой Советского Союза их прошил. Не думаю, Милана, что Юлеку с отцом повезло больше, чем мне.
─ Ты просто недостаточно романтик! — Милана, похоже, считает, что я эту историю придумал.
А я только чуть-чуть присочинил, не все детали помню, восемь лет прошло. Эту историю в лицее целый месяц обсуждали. Случай, произошедший вблизи польско-белорусской границы, превратился в миф с множеством версий. По одной — Юлека застрелил отец, поскольку одна из двух кобыл, на которых они прискакали грабить поезд, вышла из строя: Боливар не выдержит двоих…
На меня белое вино действует веселяще, а сербке почему-то хочется драматизировать.
─ Жак, какой смысл в этом вот так грубо, топорно копаться? Иди к психоаналитику!
─ Если б, Милана, я лично не знал психоаналитика, еженедельно снимающего до состояния синих соплей стресс в соседнем баре, если б сеансы этих «кудесников» не были б так дороги, пошел бы сегодня же! Впрочем, я ж был как-то у психоаналитика. Он меня что-то спросил, черкнул в блокноте своем пару слов. Я, как полагается, лежал на кушетке. У него в кабинете над столом висел старина Фрейд. На подоконнике… м-м-м… подставка для курительных трубок, помню, стояла. И самих трубок там было штук семь. Смолил, думаю, как ненормальный этими трубками…
─ А что он сказал?
─ Я не помню. Он говорил, имея в виду, что я буду к нему постоянно ходить на эти сеансы, а потом просто посоветовал принимать снотворное, явно — очень токсичное. Откровенное шарлатанство! С меня отравленного автомобильными выхлопами парижского воздуха достаточно! На следующий день я этого мужика на площади Пигаль видел входящим в порнокинотеатр. Да, смешно, но это — факт. Милана, ну, бывает такое. Случай. Совпадение. Иду по Пигаль. Там вход такой… с плотной портьерой. Слышны звуки, точнее — стоны. Возле дыры — здоровенный чернокожий привратник, улыбается: милости просим, все будет ОК… Да я понимаю, что вы и сами там мимо проходили! Ну вот… Он то ли рекламки-программки, то ли флайеры раздает. Передо мной шел мужик, обычный какой-то, я не разглядывал, остановился выяснить у громилы, что там интересненького. Я как раз мимо них проходил. Оказалось — это тот самый психоаналитик! Оглядываюсь, а он внутрь пошел. Наверняка подверг во время киносеанса кого-то психоанализу.
Поль все это время продолжает читать книгу Горького.
─ Ты-то сам там, на Пигаль, что делал? — Милане почти смешно. У сербки быстро меняется настроение.
─ Да известно, что, посещал проститутку. В психотерапевтических целях.
─ Серьезно? Жак…
─ Шучу. Я их боюсь на самом деле.
Пора вырывать Поля из цепких лап Горького. Он все это время, словно прилежный ученик, читает «Детство»!
─ Дружище, — обращаюсь к французу, — а можешь вслух?
Поль отрывает взгляд от книги. Смотрит на нас с Миланой так, словно видит впервые.
─ Ладно. Слушайте, — смиренно соглашается Поль.
─ Рассказывал он вплоть до вечера, и, когда ушел, ласково простясь со мной, — читает нам Поль «Детство» Горького, — я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слез трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил меня, но и забыть об этом я не мог…
─ Кстати, если бы не этот жестокий дед, стал бы Алеша Пешков — Максимом Горьким? Сто процентов — нет. Поль, я хотел тебя, почти дипломированного историка, спросить. В государствах, где у власти находился не крупный капитал, а трудящиеся, подавления личности не было?
─ Если коротко, то было.
─ Вот! И ты говоришь, что есть смысл в какой-то там борьбе?
Поль, увидев на лице Миланы недоумение, говорит:
─ Жак, поговорим потом на эти темы, а? Честно говоря, сейчас хочется просто посидеть дома, попить вина, поболтать о чем-то более веселом.
─ Вот-вот, Жак, — соглашается его подруга, — перестань мрачно смотреть на мир.
Мы еще долго, до глубокой ночи, несем околесицу. Выпиваем все запасы вина. Постоянно, почти отчаянно, но весело, иногда перебивая друг друга, о чем-то говорим. Идем в супермаркет за ветчиной, сырами, прихватываем там еще недорогого хорошего белого и красного вина, минералки. Поль, Милана, я — мы всю дорогу не умолкаем. Выпиваем по дороге домой в соседнем баре по чашке кофе.
Поль, оказывается, снова курит. На улице закуривает. Мне не хочется. Но я тоже вытягиваю из пачки с цыганкой сигарету. Поль утверждает, что их теперь во Франции не производят.
─ Серьезно? Я и не знал, тогда давай и по второй покурим.
─ Давай с твоей личной жизнью уже решать.
─ М-м-м…
─ У тебя вообще были девушки?
─ Само собой, Поль! Но это все было там, в Варшаве. И одна из них вообще была проституткой.
─ Ого…
─ Да я не знал об этом! Она это скрывала. Делала вид, что приличная. А сама имела такой грандиозный опыт… В общем, что говорить…
─ А в Париже?
─ М-м-м…
─ Ты у нас монах Тук какой-то.
─ Летиция не в счет… В Париже была, Поль, одна. Симона. Я с ней даже в Варшаву как-то летал. И сейчас — есть. Не Симона, другая.
─ Ах, ты прохвост!
─ Ее зовут Надежда. И она, к слову, русская. Не совсем русская. Фамилия — украинская. Весенчук, что ли… Или Песенчук. Ну, как-то так. Оканчивается на «чук». Это означает, что она может быть украинкой. Хотя и русской с такой фамилией тоже может оказаться вполне.
─ Получается, нашел себе украинку? Ну, молодец!
─ Ха-ха-ха…
─ Она из Вологды.
─ Наверное… это где-то на Волге…
В какой-то момент становится не по себе: наступит время сна, и я останусь наедине со своими мыслями.
Когда в третьем часу ночи укладываемся, так и происходит. Из-за двери спальни ничего не слышно, во всей квартире тишина. Я постелил себе в гостиной на диване. В окно сквозь гардину светит уличный фонарь. С дивана, из того, положения, в котором я лежу, хорошо виден через кухонный дверной проем бок холодильника. С него на меня смотрит через прорезь своей pasamontanas мексиканский борец за справедливость. «Интересно, дети в Чьяпасе совсем не плачут от того, что их несправедливо наказали? Там теперь такого не бывает? Может, субкоманданте в отдельно взятом штате построил общество, в котором нет горькостей детства? Ох, сомневаюсь…» — вертятся последние, уже сонные, мысли. Сейчас мне кажется, что и он — этот повстанец — всего лишь унылая деталь нашего циничного и прагматичного мира, состоящего из рекламы, пиара, маркетинга, манипуляций человеческим сознанием. Даже из Че Гевары сделали модный принт! Я не верю в улучшение человеческой жизни на планете Земля с помощью каких-то там преобразований, борьбы, революций. Общий объем зла и всякой нечисти в век, когда люди бесконечно ведут по мобильникам бессмысленные беседы, скорее всего, остается примерно таким же, как и тысячу лет тому назад, когда они почти столько же времени уделяли чтению Священного Писания и молитве… Веки все-таки тяжелеют. Моя фабрика грез обволакивает сознание… Перед тем, как окончательно провалиться в нее, соглашаюсь с самим собой: «Хорошо, что не отдал кому-то, не выбросил этюдник и краски…»
Москва, 2016—2017
ЖИЗНЬ, ПРОЖИТАЯ ЗРЯ
Моим ровесникам
На еще молодом — с резкими и почти правильными чертами — лице актера драматического театра и кино Дмитрия Облакова, восседавшего за изрядно потертым и местами сильно поцарапанным столом в стиле ампир, читалась растерянность.
Вываливающиеся паркетины, несвежие обои, полуосыпавшийся кафель в санузле, въевшаяся там и сям грязь, масса не самых приятных запахов — у некоторых потенциальных арендаторов все это способно было вызвать рвотный рефлекс. Облаков, появившись в этой однокомнатной квартирке два года назад, несколько раз брезгливо морщился в ходе осмотра…
Посредник, рыжий веснушчатый малый лет двадцати, взял мажорный аккорд:
─ Квартира, как мы говорим, уставшая. «Бабушкин ремонт»!
У рыжего прохиндея был такой вид, словно он мечтает жить в «уставшей» квартире.
Владелицу назвать бабушкой было сложно. Галина Семеновна — лет пятидесяти женщина неопределенного рода занятий — не сомневалась: снимут и так, без всякого ремонта!
Недостатки интерьера и общее состояние квартиры компенсировала цена аренды.
«Лучше это безобразие на Бульварном кольце, чем такое же на окраине», — подумал актер, уже посмотревший к тому моменту несколько подобных, по совести «убитых», а не «уставших», квартир. Только те были дороже или находились дальше от центра.
Мелочь, но приятно, когда на вопрос, где живешь, можно ответить: «На Чистых прудах».
Несколько десятков шагов по улице Макаренко — и ты в театре! Еще несколько — на сцене.
─ Вам письмо!
Только два слова. Потрясающая роль…
На столе перед Облаковым возвышалась куча, состоящая из квитанций, чеков, блокнотов, записных книжек, билетов, приглашений, фотографий, CD, DVD и, несмотря на 2010-й год, компакт-кассет и грампластинок…
В который раз он переезжал со съемной квартиры. Теперь, правда, чтобы жить в собственной — во Франции.
На Лазурный берег Облаков отправлялся рейсом Москва — Ницца в десять часов утра.
О своем уходе из театра Дмитрий Облаков сообщил перед репетицией «Вишневого сада», в котором разменявшая десятый десяток Татьяна Артемовна играла Раневскую.
У примы театра, которой Станиславский как-то прокричал «Не верю!», сместилась вставная челюсть. Она хотела что-то сказать, но сумела лишь прошамкать, после чего смутилась и удалилась в гримерную выпить столовую ложку седативного сиропа.
Физиономия Дындровецкого-Гаева от новости, которую поведал Облаков, сложилась в такое звериное выражение, как если бы внезапно переезжающий во Францию Вам Письмо вдруг заявил, что Чехов безнадежно устарел.
Актер драматического театра и кино, теперь уже бывший, купил себе жилплощадь с видом на Средиземное море. Вопрос с видом на жительство, благодаря знакомому французу, пригласившему работать Дмитрия в свою фирму, был улажен.
«Все-таки правильно, что ближе к Вильфранш-сюр-Мер взял! — мысленно смаковал покупку Облаков, покидая навсегда стены театра. — Там как-то спокойней, чем в самой Ницце. Бог даст, и яхту со временем куплю…»
Облаков уже знал, что иметь собственную яхту могут себе позволить только богачи. Триста тысяч евро — за не самый интересный вариант. Да и содержание лодки влетает в копеечку. Хочется провести под парусом несколько дней? Яхту можно арендовать! Даже знакомый француз — ниццкий богач мсье Мерсье обходился без собственного флота.
Дмитрий считал, что без яхты прекрасно проживет. Вот чего действительно хотел Облаков — стать собственником гостиницы на Лазурном берегу. «Пусть, — думал он, — это будет совсем маленький отельчик. Главное, такой, чтобы уже можно было совсем не заботиться о хлебе насущном». Ему казалось, это не так уж нереально. Дмитрий привык думать: «За годы работы у Мерсье смогу накопить на собственный отель».
Облаков представлял, как он иногда приезжает на скромном Peugeot RCZ в стоящий недалеко от моря отель. Он входит, персонал с почтением здоровается. Облаков дружелюбен, сдержан, обсуждает какие-то детали, о чем-то спрашивает, смотрит какой-то отчет и, нырнув в свой красный «пежо», уезжает. «Если совсем скучно без трудовой деятельности станет, — рассуждал наш герой, — можно и дальше на Мерсье работать. Не мешает и пассию найти…» В глубине души Облаков считал, что скучно совсем-совсем не будет. Книги, кино, общение, прогулки по красивейшим местам… Он еще на Корсике, в Марокко, в Тунисе, на Сицилии не был — от Ниццы это все недалеко…
Однажды Облаков пешком прошел от Ниццы до Вильфранша. Нежаркое декабрьское солнце, пальмы, лазурные волны… Был солнечный и очень теплый, несмотря на зиму, день, что для Лазурки совсем не редкость. Слева — виллы, дома с люксовыми апартаментами; справа — горизонты Средиземного моря, где, куда ни глянь, точки качающихся на волнах яхт… Примерно в той части побережья, где внизу, на пристани, швартуется паром, курсирующий между Ниццей и Корсикой, Облакову захотелось по нужде. Пришлось воспользоваться какими-то кустами. «Прямо как в России», — почему-то удивился Облаков.
Двумя часами ранее он расстался с супругами Мерсье, которые потчевали его на своей вилле фуа-гра и специально подобранными к блюду изысканными винами.
─ Вам, мсье Облаков, пора понемногу привыкать. Наш фирменный паштет, свежий хлеб, хорошее вино… Хотя сам я пью только воду, вино — лишь иногда. Когда, например, хочу напоить кого-то, — Морис Мерсье расхохотался зычным басом, характерным скорее для изрядно выпившего славянина, чем пригубившего атланто-средиземноморца. Говорил он по-русски хоть и с сильным акцентом, но лучше иного носителя языка.
Мерсье этот был потомком белоэмигрантов. Его дед отчалил из Севастополя на одном из последних пароходов. В Париже женился на француженке. Говорят, она была продавщицей в ювелирном магазине на Вандомской площади. Познакомились, когда белогвардеец искал, как бы ему выгоднее продать вывезенные из России бриллианты.
Дед Мориса Мерсье поселился со своей француженкой в Канне, потом переехал в Ниццу.
Сын белогвардейца Борис Мерсье (взял фамилию матери) вроде был поэтом, все время ездил по миру.
─ Я, уважаемый Морис, — Облаков постарался улыбнуться улыбкой по-европейски приветливого человека, — кофе и чай очень люблю.
─ Дмитрий, от них кожа портится. Много лет обхожусь водой и вином. Может, вы еще и газировку сладкую пьете?
─ Энергетические напитки иногда.
─ Кожа стареет от газировки невероятно… Я, знаете, бонвиван, но ограничиваю себя.
Морис разбогател, получив большое наследство и перепродавая на Лазурном берегу недвижимость. Давно разменял седьмой десяток. Лет десять назад женился на молодой женщине и потому старательно молодился.
Облаков еще в первую их встречу отметил какое-то неуемное тщеславие этого господина. Особенно тому хотелось похвастать своими мужскими «достижениями».
─ Ох, и оторвался я с путанами в «Прибалтийской», — вдруг говорил не в тему раскрасневшийся мсье Мерсье о своем посещении тогда еще Ленинграда.
Так и сказал: «Оторвался!» Хорошо знал советский молодежный жаргон. Как бы там ни было, но француз, с которым Облаков подружился настолько, насколько вообще возможно подружиться с французом, помог подобрать апартаменты и даже предложил работу — у себя, в фирме, занимающейся продажей и перепродажей недвижимости. Русский артист, считал Морис Мерсье, пригодится в общении с русскими нуворишами, которые хоть и парвеню для всякого нормального француза, однако виллы и апартаменты покупают, не умея торговаться.
Казалось бы, где мог познакомиться Облаков с мсье Мерсье? В одном из ресторанов на Английской набережной, в каком-нибудь из музеев Кремля… Их пути пересеклись в русской глубинке.
Одним из хобби Мориса Борисовича Мерсье была российская провинция. Он любил бывать в разных городах Золотого кольца. Вечно покупал там иконы, полотенца, лапти, в последний день поездки обязательно объедался кулебяками и расстегаями.
Именно на своей малой родине, в Пскове, Облаков еще в далеком 2001-м году свел знакомство с французом. В обычной русской бане. Мсье Мерсье не рассчитал силы, выпив с кем-то медовухи. Его сильно развезло. Заснул француз, впрочем, когда уже уходил, в вестибюле, присев на диванчик, чтобы завязать шнурок. Проявивший гуманизм Облаков доставил иностранца в гостиницу, название которой тот, к счастью, помнил.
На следующий день они вместе гуляли по местному блошиному, как сказали бы во Франции, рынку. Дмитрий был всегда уверен, что, кроме явной рухляди, на псковской барахолке найти что-либо затруднительно. Однако Мерсье купил у бабки, торговавшей ржавыми шурупами, шерстяными колготками, пластмассовыми Т-34 и бюстом Наполеона, изваяние французского императора.
─ Это довольно редкий экземпляр, мсье Облаков. В Париже на Клиньянкур вам такой за пятьдесят франков не продадут, ио-хо! — хохотнув, заметил Мерсье, когда они с Облаковым отошли от продешевившей псковской бабки…
«Усиленно учим французский. Также надо первым делом хорошенько осмотреть окрестности Ниццы — Кань-сюр-Мер, Сен-Поль-де-Ванс… — рассуждал про себя Облаков, глядя на два распахнутых и почти уже забитых всякой всячиной чемодана. — Климат там прекрасный, места, конечно, потрясающие».
Актеру оставалось пробыть в неблагоприятном климате всего несколько часов…
Облаков решил взять с собой только то, что войдет в два больших чемодана. В процессе сборов оказалось, что взять хочется гораздо больше, чем влезает. Дмитрий постоянно оптимизировал имущество (переезжать приходилось довольно часто), но все равно накопилось много всякого. И забыл он, как вдруг выяснилось, пристроить в хорошие руки несколько увесистых сборников живописи. А Галину Семеновну шедеврами разве проймешь? Улетят альбомы в мусоропровод!
В Москве, после окончания школы в Пскове, Дмитрий поменял адресов не меньше, чем Моцарт в Вене. Ареал обитания иногороднего артиста — от коммуналки над Елисеевским магазином до девятиэтажки на окраине Люберец. Даже во временно пустовавшем загородном доме Татьяны Артемовны довелось померзнуть: стояла поздняя осень, а дров народная артистка СССР не завезла… В общем, натерпелся Облаков в ожидании больших ролей.
ГИТИС Дмитрий окончил, когда уже никакого распределения и в помине не было. Во времена Советского Союза выпускники вузов в Москве, Ленинграде и республиканских столицах возмущались: оканчиваешь вуз, но если московского, ленинградского (далее по списку) штампа в паспорте нет, то поезжай в Омск, Саратов, Астрахань трудиться в местном театре. Мало кто с легким сердцем отправлялся служить на периферию.
Послевузовское распределение либералы с демократами ликвидировали. Не хочешь в Омск — не надо. Но только в столицах тебе никто ничего не обязан предоставлять. И в другой город, если хочешь, можешь разве что на свой страх и риск ехать.
Получив диплом «актера драматического театра и кино», Облаков не сразу придумал, что с ним и с собой делать. Шел 94-й год. Дмитрий ходил на актерские кастинги, а однажды на платформе пригородного сообщения узнал своего однокурсника. Тот крутился среди зевак, наблюдающих за манипулирующим наперстками и шариком крепышом.
Гриша Гусинкин подмигнул Облакову и продиктовал семь цифр домашнего номера.
─ Звякни мне вечером, Димастый! — по-свойски крикнул тот коллеге-артисту, устремившемуся к подошедшей электричке.
─ Зарплата в театре — сам понимаешь, — сказал ему вечером по телефону ассистент подмосковного наперсточника. — Подрабатываю. Не только на жизнь, но и на такси хватает.
Два раза в неделю Гусинкин становился в своем театре Кушать Подано, а в свободное от «основной работы» время изображал зеваку или «азартного Парамошу».
─ Штабных мест, — спросил Облаков актера-шулера, с которым когда-то учился в ГИТИСе, имея в виду место в штате, — у вас там не предвидится?
─ Разве что в «группе поддержки».
Облаков тогда был еще полон артистических амбиций. Шестнадцать лет назад, в 94-м, в возрасте двадцати одного года, он, конечно, еще верил в то, что станет, если не великим, то известным, актером театра и кино. А пока жил более чем скромно — макароны, чай, «Пегас»…
Крылатый конь, как известно из древнегреческой мифологии, был любимцем муз. «Любимец муз» Дмитрий Облаков предпочитал эти сигареты всего лишь за дешевизну и постоянное присутствие в ассортименте ближайшего ларька.
Он и после встречи с Гусинкиным продолжал посещать актерские кастинги и через несколько месяцев снялся в эпизоде «Ночной бабочки», ставшей одним из лидеров проката. Потом пошли всякие телесериалы и разная реклама, жизнь у московских актеров к началу нулевых немного наладилась.
Дмитрий разглядывал записную книжку, которую вел в старших классах и какое-то время в театральном институте: «Просто выкинуть? А ведь некоторые шестизначные номера телефонов, скорее всего, актуальны. Можно позвонить в свое псковское детство — Шурику или Оксанке…»
В подаренной и даже подписанной отцом, маленькой — семь на двенадцать — книжке со страницами в клеточку Облаков обнаружил массу поистине исторических записей.
С какого-то момента начинались уже московские семизначные номера.
Обнаружилось много следов культпоходов, все больше по театрам:
«Суббота, 2 октября — Ленком, „Sorry“, 19:00».
«Четверг, 6 декабря — Большой театр, „Лебединое озеро“, 19:00».
В начале 91-го, после зимней сессии, запись:
«Позвонить Юле, 499-…»
«А ведь Юля, — вспомнил Облаков, — это та самая Юля. Из кордебалета. А телефона Светы почему-то нет…»
Обнаружился номер комнаты находившегося в высотке на Ленгорах общежития, где жила бельгийка Жозиана. Эта информация относилась уже к 92-му году. Много чего, конечно, записная книжка не отражала.
Облаков, бросив взгляд на покрытую толстым слоем пыли репродукцию известной картины Рубенса «Союз Земли и Воды» (похоже, Галина Семеновна завесила шедевром какое-то уж слишком большое пятно на обоях), громко пошутил:
─ Прямо как мы с Юлькой!
Облаков гоготнул (словно подросток, стесняющийся полового созревания).
Листая дальше книжечку в зеленой обложке, Облаков на одной из страниц обнаружил стихи собственного сочинения:
Она прекрасна, я ж убог,
И если б это видел Бог,
То по Тверской, где шла она,
Навстречу б Бог послал меня…
Облаков обеими ладонями сильно потер лоб.
─ Ну и стишата я писал! — актер, ужаснувшись собственной лирике (написано в восемнадцать лет), отложил записную книжку в кучу, которую он увозил в Ниццу в одном из двух чемоданов.
Посадочный талон рейса Москва — Нью-Йорк…
Номер выхода в международном терминале аэропорта, который тогда еще назывался «Шереметьево-2», место в «боинге» — возле окна.
«Ночная бабочка» с успехом шла на экранах США и Канады, для участия в телешоу пригласили актеров не только первого, но и второго плана. Самая первая поездка за границу, самый первый в жизни международный перелет. Неужели просто взять и выбросить посадочный талон?
«Много места не займет», — подумал Дмитрий и сунул прямоугольный кусочек плотной бумаги в сборник пьес Теннеси Уильямса — тот оказался в финале «Ночи игуаны».
Несколько лет назад Дмитрий вознамерился стать драматургом. Осталось от этого печального опыта к моменту отъезда одно лишь слабое нежелание выбрасывать книгу американского автора.
Он понимал: традиционной аристотелевской драмой заявить о себе неизвестному литератору почти невозможно. Несколько бессонных люберецких ночей — и Облаков написал экспериментально-депрессивную пьесу «Луна и дерьмо». Название навевало ассоциации с Моэмом и Гогеном, что представлялось Дмитрию скорее плюсом.
Персонажи его пьесы сыпали матом, курили, изображали нервяк. Был момент, когда актеры даже должны были плевать в зрителей. Все четверо, словно по команде. Это при том, что людей в зале собралось бы, скорее всего, меньше, чем на сцене. Одна из героинь в финале спектакля кидала публике собственный лифчик и надрывно кричала:
─ Когда ж вы уже сможете понять женщину?!
Облаков планировал покорить жюри «Золотой закваски». Как минимум, его женскую часть. Но ставить эту пьесу не захотел почему-то даже театр «Чпок», где мат и плевки были обычным делом.
Все, что у Облакова реально наличествовало в активе, — безрадостная актерская поденщина. А ведь как хорошо все начиналось…
Июнь 1990 года.
Союз Советских Социалистических Республик. О скором развале Империи даже в ЦРУ еще ничего не знают. Облаков остановился у родственников в подмосковном Климовске, занимался с репетитором английским, собирался поступать на истфак МГУ.
На самом деле, хотел в театральный.
Облаков почти каждый день ездил на занятия к англичанке на Ленгоры. Там, в первом гуме, познакомился с первокурсницей истфака Дарьей. Даша сдала на отлично очередной экзамен и находилась в прекрасном настроении.
На следующий день они гуляли по Арбату. В основном слушали песни «Звуков Му» в исполнении двух юнцов-гитаристов — один прыщавый, другой с еще ломающимся голосом:
Я тебя не тискаю в каждом углу.
Я весь воняю краской, мои руки в мелу.
А я так хочу быть пупсиком…
Вид у юношей был нарочито лихой, но, в общем-то, было понятно: для них изображаемые в песне действия — теория.
Потом Даша показала Облакову тусу олдовых хиппи, Гоголя — площадку в начале бульвара, в центре которой стоит памятник (голова) автору «Сорочинской ярмарки».
Там бородатый с проседью хиппи в клешах, аккомпанируя себе на гитаре, пел:
Расправив ворот куртки,
Вздохнул легко и просто.
Сказал знакомым лицам:
«Все — на Коровий остров!»
Пипл, развалившийся на двух стоящих рядом скамейках, подхватывал рефрен с явным удовольствием (словно «сансара» — это что-то очень хорошее):
О-о-о-о-о-о, Сансара!
─ Это Тыц, — прокомментировала Даша, имея в виду погоняло исполнителя. — Интересный мужик, но часто невменько. Думаю, сегодня опять под колесами.
─ А что он поет? — Облаков в ту пору жадно впитывал любую, связанную с модными тенденциями, информацию…
─ Песняк «Малинова куста», — пояснила Даша, стрельнув сигарету у почему-то все время улыбающейся хиппушки.
Увидев недоуменное лицо Облакова, сморщив нос, уточнила:
─ «Калинова моста».
─ А-а… — заценил фокус Облаков.
Спрашивать про сансару постеснялся.
Дашка глотнула 777-го портвейна, протянутого ей Струнычем — длинноволосым дылдой с ксивником на груди. Возле скамейки уже стояло несколько пустылок из-под «трех семерок». Большинство присутствовавших были явно в каком-то искусственно приподнятом состоянии духа. Чувствовалось: сигареты и портвейн в большом количестве для этой дринч-команды — обычный суточный рацион.
─ Ух! — кокетливо ухнула Дашка, сделав несколько глотков портвейна, и протянула бутыль Облакову.
Дима от мирских радостей, как всегда в таких случаях, отказался. Живя в Пскове, Облаков думал, что так — сигареты, портвейн на уличной скамейке — ведут себя исключительно пэтэушницы. Даша родилась в семье знаменитого археолога, жила в цековском доме. Такое положение дел разрывало облаковский шаблон.
В шестидесятые в США таких, как Дашка, называли «хиппи на уик-энд». Она была слишком умна, чтобы стать пионеркой, — юной глупой хиппушкой, которая за несколько лет превращается в потасканную старую женщину с вредными привычками. Время от времени, после занятий в университете, Дашка навещала Николая Васильевича Гоголя или ехала на квартирник в какое-нибудь Беляево, где более или менее профессиональные музыканты исполняли песни собственного сочинения.
Через полторы недели, когда заканчивалась сессия, она, порадовав родителей отличными оценками, собиралась ехать в крутое хипповское место на реке Гауя в Латвии.
Облаков, узнав об этом, был в шоке, поскольку в ту пору даже не мог представить себя едущим на попутках в Прибалтику.
─ Псков — это же рядом с Латвией! Поедешь? — спросила Облакова Дашка.
─ Эстония у нас там ближе… Нет, думаю, не получится. На следующий год, может быть…
Отказ Облакова хлебнуть винца («Для поднятия конца!» — прокомментировал Струныч) вся тамошняя компания посчитала недоразумением.
Среди хиппанов в тот день на Гоголях присутствовало немало старичков 65-го и даже 60-го годов рождения. Каждый из этих 25-30-летних олдовых обязательно имел погремуху — Тыц, Лавр, Струныч, Румба…
Живя потом постоянно в Москве, Облаков нередко захаживал на Арбат, на Гоголя. Время от времени видел там и олдовых, и тех, что в 1990-м еще пионерили.
Облик у них был уже не такой оптимистичный, как в последние годы существования СССР. При советах жизнь московских недорослей из обеспеченных семей могла протекать в веселом безделье. Здоровья еще много, заботиться о хлебе насущном пока не надо. Самым агрессивным проявлением окружающей среды были для них иногда приезжающие на Арбат люберманы.
С приходом капитализма, с возрастом ситуация существенно поменялась. Из советских хиппи, встреченных Облаковым, когда он только появился в Москве, те, что в начале девяностых не остепенились, к концу десятилетия умерли или сошли с ума от наркотиков, алкоголя и по другим сопутствующим причинам почти все.
Когда шли с Гоголей, Облаков поинтересовался:
─ Даш, а почему хиппи называют себя системой?
─ Понимаешь, Митяй, — начала слегка захмелевшая студентка МГУ. — Системные хиппи — это, по всей стране, флэтовые концерты, вписка на найт, сленг, поездки автостопом и на собаках…
─ А также факсейшн по всей стране, — перебил ее Облаков.
─ Ого, какие мы слова знаем! — Даша была немного удивлена.
─ Читал об этом. Лозунги возвышенные: «Мир и Любовь» (Peace & Love), «Люби, а не воюй» (Make love, not war), а на деле — разврат.
─ Это ты явно какой-то печатный орган ЦК ВЛКСМ читал. Пойми, для хиппи главное — духовный поиск.
Облаков подумал о пьяной герле по кличке Фенька (прозвали так, потому что слишком часто на ней, кроме бус и фенек, ничего не было), неприлично заржавшей, когда кто-то из хипповой массовки заорал на весь бульвар:
─ Мэйк пись, нот во!
─ Даш, а на что они живут? Особенно интересно, на что — взрослые дядьки?
Дарья ответила, что он сам со временем, если захочет, поймет. А Облаков подумал: «Конечно, спев для прохожих „Я хочу быть пупсиком“, они могут получить несколько рублей, но это ж, в лучшем случае, на портвейн!»
Дима жил в Москве уже недели две, с Дашей был знаком несколько дней. В семнадцать лет — это очень даже немалый отрезок жизни. В тот знаменательный день, подойдя к голове, Облаков не обнаружил подружку, с которой забил стрелку. На скамейке сидел Струныч и, кажется, делал вид, что Диму знать не знает. Ждать Дашку, которая, возможно, опоздает на час (вчера именно так и произошло) его — он уже формулировал иногда свои эмоции по-хипповски — ломало.
«Почему бы не зайти, не узнать, что в ГИТИСе надо для поступления? Аттестат с собой, можно подать документы даже… Просто попробую. Надо уточнить, когда у них начинаются прослушивания, экзамены. Все равно еще рано идти в приемную комиссию истфака…» — так думал Облаков, пересекая Арбатскую площадь по подземному переходу.
В ГИТИСе, заглянув в его документы, заполнили какую-то анкету и говорят:
─ Пройдите в комнату номер…
Прослушивание. Первый тур. В коридорах столпотворение. По пять человек запускают, внутри преподаватель предлагает прочесть заготовленное — стих, басню, отрывок прозы.
Облаков совершенно не планировал вот так, с бухты-барахты… «Может, — пронеслось у него в голове, — Дашка уже пришла?» Хотелось сбежать, но гордость этому противилась. Облаков шел по коридору и думал: «Сейчас меня завернут. Да еще добавят, что с такими способностями мне место в макароно-сверлильном…»
Оказавшись среди абитуриентов (ноги сами принесли к нужной двери), он стоял и думал: «Прочитаю „Брожу ли я…“ Пушкина и отрывок „Стеклянного зверинца“ Теннеси Уильямса, а басня, может, и не понадобится…»
«Я теперь в банде у Хогана, мама, — наемный убийца, таскаю автомат в футляре от скрипки!..» — Облаков стал про себя репетировать запомнившийся яркий монолог.
Подумал: «Дашка, в своем сарафанчике а-ля Дженис Джоплин, скорее всего, уже пришла. Села под Гоголем на теплый отполированный постамент и ждет…»
Пригласили войти. Он и еще два парня и две девушки, пропуская друг друга, создав толкучку в проходе, ввалились в залитую солнцем абсолютно пустую — за столом какой-то мужик и все — аудиторию.
«Сейчас кого-нибудь вызовут, — подумал Облаков, — послушаем…»
─ Облаков!
Его анкета оказалась сверху.
Пол под ногами качнулся. Дима совладал с качкой, подошел к столу, за которым сидел преподаватель, похожий на сошедшего с ума немецкого философа Фридриха Ницше.
─ Становитесь там, — преподаватель указал на одинокий венский стул у противоположной стены. — Что у вас?
─ Пушкин.
─ Давайте.
─ Стихотворение представляет собой философское размышление над тридцатилетним итогом жизни поэта, — блеснул эрудицией Облаков, потерев пальцем старую облупившуюся краску венского стула.
─ Ну, хорошо, хорошо, читайте.
Было уже два часа дня. Толпы трентиньянов, мордюковых, рурков, жирардо и прочих крамаровых здорово утомили Ницше.
Голос Облакова зазвучал необычно для него самого, неестественно звонко. Диме показалось: когда он начал, Ницше удивленно нахмурился…
Брожу ли я вдоль улиц шумных…
Взгляды Ницше, будущих звезд театра и кино, а также тревожная тишина — все это страшно нервировало, но Облаков мужественно декламировал.
Закончив, осмелился взглянуть туда, откуда за ним наблюдал все это время Ницше.
Тот отмахнулся от мухи и попросил:
─ Читайте басню.
─ Лучше, — замялся Дмитрий, — я отрывок пьесы прочту.
─ Почему басню не хотите?
─ Не подготовил.
─ Придете еще раз, с басней.
Облаков пришел.
Более того, он стал студентом ГИТИСа.
Как чувствует себя юноша, поступивший, при конкурсе двести человек на место, в престижный столичный вуз на актерский факультет?
Он пребывает в состоянии эйфории.
Диме Облакову долго еще казалось странным, что он ездит по городу на метро, а в Псков — в плацкартном вагоне, что Моссовет не выделил ему лимузин и квартиру над книжным магазином «Москва». Он бы не поверил предсказанию, что через несколько лет, и даже двадцать лет спустя, на театральной сцене ему придется регулярно зычным голосом констатировать факт:
─ Вам письмо!
─ Учеба на историка или артиста, тусовки, даже книги в большинстве своем… Все это — колесо сансары, колесо перевоплощений, — услышал Облаков от Дарьи, когда они ранней осенью сидели на Тверском бульваре возле двухсотлетнего дуба.
На Гауе, проведя вместо запланированной недели целых шесть, Даша познакомилась с поклонниками Сиддхартхи Гаутамы.
─ Сансара — это мир страданий, — говорила она Облакову.
─ И что, вообще никаких удовольствий нет в жизни? — сомневался Облаков.
─ Нам может казаться, что есть приятные эмоции. Чем бы тут все нам ни казалось, мы, пока не достигли просветления, обречены крутиться в колесе сансары, перевоплощаться…
Подружка щелкнула зажигалкой, прикурила сигарету. Ее слова плохо сочетались с тем, как она затягивалась, и медленно, задерживая в легких, выпускала дым. К тому же новоиспеченный москвич был совершенно не против того, чтобы крутиться, суетиться, жить полной, как ему казалось, жизнью. На занятиях в ГИТИСе, после — в общежитии «на Трифанах», между этими пунктами — на улицах Москвы сложно заскучать приехавшему из Пскова еще очень молодому человеку.
Конечно, быт любой советско-постсоветской общаги назвать комфортным сложно. Кто-то хочет спать, кому-то приспичило готовиться к экзамену… Кто-то, по случаю дня рождения, купил десять трехлитровых банок разбавленного пива и пару подтухших копченых рыбин: раньше четырех утра не заснешь! Пришел из института, надо готовиться к завтрашнему экзамену, а в твоей комнате местный Франсуа Вийон по прозвищу Магарыч заперся с какой-то теткой из трамвайного депо. Но разве все это умаляет общий праздник состояния «студент — Москва — общага»?
С Дашкой после того разговора под дубом виделись один раз, когда случайно столкнулись на Моховой в середине девяностых. Дарья сказала, что недавно приехала из Непала. Дмитрий — что надо «нормально встретиться». Как это в современной Москве водится, так и не встретились.
Облаков принялся рвать сохраненные им зачем-то справки, удостоверяющие его временную регистрацию в Москве.
Железный будильник, притаившийся за стеклом серванта (мебельный хит эпохи позднего Брежнева), показывал половину пятого. Облаков завел его на шесть утра.
«Вдруг, — подумал он, — засну за сборами».
В аэропорт надо было приехать к восьми утра. Такси, зная московские пробки, Облаков заказал на четверть седьмого. До выхода из дома оставалось меньше двух часов.
«Взбодрюсь!» — решил Облаков.
Дмитрий прошел на кухню и поставил кипятить воду в эмалированном чайнике.
Однажды, на излете девяностых, Облаков шел после спектакля, на который его и Дындровецкого позвали друзья-коллеги из другого театра. У Никитских ворот ему пришлось простоять минут тридцать в компании двух вооруженных автоматами милиционеров. Те даже по рации вызвали патрульную машину, чтобы везти Облакова для выяснения личности в отделение: справка о регистрации — так получалось, по их словам, — поддельная!
Более настоящей быть просто не могло. Известная широким массам по телешоу «Кранты» Альбина Васильева временно зарегистрировала Дмитрия Облакова в первой от Кремля высотке на Новом Арбате, в собственной квартире…
«Когда — да! — не заслуженный, не народный, но все же артист идет вечером домой (завтра днем — съемка в рекламе, вечером — спектакль), а его заставляют чувствовать себя мелким жуликом… Только в России такое бывает… Прописки эти… Сплошное ущемление прав человека…» — мысленно возмущался Облаков. Впрочем, бывает ли такое за рубежом, Дмитрий толком не знал. Почему-то ему казалось, что не бывает. И не бывает во всех странах. Россия — единственное исключение. А еще ему было обидно за то, что его не узнают.
В прошедшей с огромным успехом несколько лет назад не только в России, но и за рубежом «Ночной бабочке» Облаков сыграл коллегу автоматчиков. Роль была маленькая, но со словами. Но Дмитрия никогда не узнавали. Иногда кто-то мог его идентифицировать, вспомнив рекламу собачьего рагу. Особенно тот момент, когда Облаков соревнуется с ирландским терьером, кто первый добежит до миски с деликатесом. Напоминать же знаменитую сцену из «Ночной бабочки» со своим участием актер, разумеется, считал ниже собственного достоинства.
«Да уж… — сердился Облаков. — Если б тут сейчас был Дындровецкий, они б так себя не вели!»
Устав топтаться на одном месте, Облаков, помнится, спросил автоматчиков:
─ Калаши-то вам зачем?
Представил милиционеров, которые залегли за клумбой и палят…
Наконец автоматчикам надоело ждать машину. Они вдруг решили: справка настоящая!
В течение долгих лет, все девяностые и большую часть нулевых, Лидия Ферапонтовна, когда внук навещал ее во время своих приездов, непременно грустно вздыхала:
─ И как ж ты там, унучек, живешь, мыкаешь…
Год назад, когда Дмитрий совершенно не понимал, как ему дальше жить, выяснилось, что ушедшая в мир иной Лидия Ферапонтовна завещала единственному внуку свою огромную квартиру в центре Пскова. При ближайшем рассмотрении оказалось: продав ее, можно купить довольно приличную на окраине Москвы или в пятидесяти метрах от моря, на Лазурке.
Так появилась в его жизни новая и при этом очень привлекательная цель.
Облаков сделал глоток крепкого чая и покрутил ручку настройки радиоприемника, который решил не брать с собой в Ниццу. «Оставлю его, — решил Облаков, — Галине Семеновне, которая скорее удавится, чем сделает арендатору временную регистрацию и заплатит подоходный. Может, радио на нее, как велосипед на почтальона Печкина, подействует».
Облакову очень хотелось найти в эфире что-нибудь из того рок-н-ролла, от которого он когда-то испытывал мощные приливы энергии. Голос Грейс Слик возвестил о том, что отбывающий во Францию русский актер нашел искомое. Это была знаменитая «To love somebody».
«Интересно, где сейчас Юлька?» — подумал Облаков.
Багаж был уложен.
Облаков проверил: мобильный телефон, паспорт, портмоне — все лежит в тех карманах, в каких нужно. Ключ от квартиры надо было бросить в почтовый ящик.
По нервам ударил пронзительный звонок железного советского будильника. Шесть часов.
Через пятнадцать минут, закинув чемоданы в багажник такси, Облаков забрался вместе с небольшим рюкзаком на заднее сиденье.
─ Шарамэтево? — уточнил таксист.
─ Да! — Облаков вдруг с удивлением осознал: совершенно не хочется спать. — Терминал «Е».
Таксист кивнул и нажал клавишу на панели приемника. Из встроенных в двери колонок вырвался финал песни, услышанной Облаковым впервые в далеком 1990 году:
Пришла пора прощаться,
Нас кто-то нервно будит.
Я на прощанье крикну:
«В субботу — здесь же, люди!»
О-о-о-о-о-о, Сансара!
Облаков бросил прощальный взгляд на соседку, выгуливающую с утра пораньше крупного флегматичного пса по кличке Фома, и неожиданно — ни с того, ни с сего — подумал, что совершает страшную ошибку. Дмитрий вспомнил хитрую физиономию Мориса Борисовича, фальшивую улыбку его жены, подозрительного российского регионального чиновника, приходившего в офис Мерсье…
«Мне уже тридцать семь. Большая часть, скорее всего, прожита. И на данный момент это — жизнь, прожитая зря. А что впереди? Зачем мне эта Средиземка-Лазурка? Зачем мне дом в стране, в которой я никого и ничего не знаю?! Какой смысл в этом переезде?»
Задавшись впервые таким простым вопросом, Дмитрий вдруг понял: он сам не знает. Ни о каком смысле он не задумывался. В приобретении квартиры на Лазурке, в самом по себе этом действии, уже вроде как содержался огромный смысл. И окружающие, все, кто узнавал, что Облаков теперь — почти француз, не спрашивали его:
─ А в чем для тебя смысл этого переезда?
У всех расширялись глаза:
─ Ого!
─ Ницца?
─ Вот это да!..
Разве что в театре одна актриса задала, как ему показалось, наивный вопрос:
─ Ты считаешь, там жизнь намного лучше?
Облакову захотелось развернуть такси, ехавшее по Ленинградскому проспекту. Но возвращаться было некуда. А впереди ждало кресло в салоне самолета, собственная квартира в Вильфранше.
Встреченный году в 98-м на Арбате Тыц, аскнув у Облакова прайс на пачку сигарет, рассказал, что очнулся около часа назад на флэту с ощущением: с коры его перенасыщенного «мультиками» мозга последние двое суток слизаны какой-то жуткой сиренево-зеленой коровой.
Тыцевская «история» напомнила тогда Дмитрию песенку, в основном известную у нас по фильму «Большой Лебовски»: душа улетела в темную дыру — он видел себя взбирающимся, падая в пропасть…
Мчащемуся по Ленинградскому проспекту в желто-шашечном «форде» Облакову стало страшно. Без какой-то явной причины.
Внутри поднялась волна тяжелой душевной мути.
─ Недосып, нервы… — вздохнув, подумал Дмитрий, когда охватившая его паника немного рассеялась.
Москва, 2015—2017
Приобрести книгу можно тут: https://ridero.ru/books/poiskovyi_zapros_zhemchuzhina/

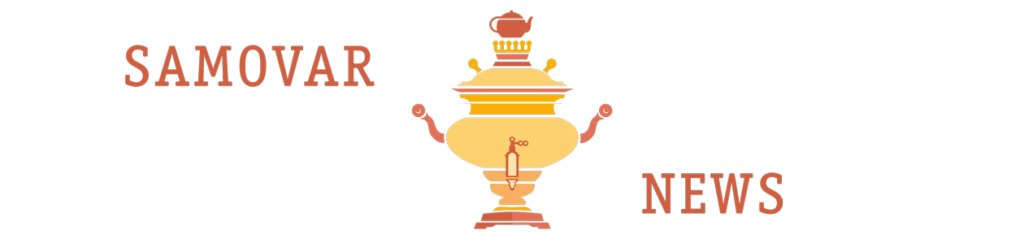

… [Trackback]
[…] Info to that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Here you can find 11080 more Info to that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Read More on to that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Info on that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Read More on on that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Info on that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Read More on to that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Find More Info here to that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Read More on that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Find More on that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Here you can find 51553 more Info on that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Read More Information here to that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Find More Information here to that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Info to that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Find More here on that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Read More on that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Here you will find 59998 more Information to that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Info to that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Find More Information here on that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Info on that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Here you can find 62648 additional Information on that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Here you can find 94344 more Info on that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Find More Info here on that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]
… [Trackback]
[…] Find More Information here to that Topic: samovar-news.com/2018/09/23/poiskovyj-zapros-zhemchuzhina/ […]