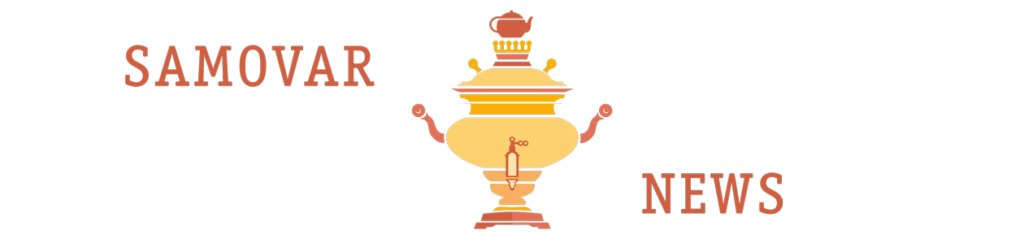.

Станислав Мезенцев
.
– Станислав Васильевич, сегодня бесспорным лидером на Африканском континенте, по крайней мере, в экономическом плане, стал Китай. Как же США, которые с начала 1990-х позиционировали себя в качестве единственного в своём роде мирового гегемона, позволили такому случиться?
– На самом деле, в этом нет ничего удивительного. Дело в том, что американцы разворачивали свою деятельность в Африке в последние десятилетия ничуть не менее активно, чем китайцы. Правда, до последнего времени африканская стратегия США кардинально отличалась от её китайского аналога. А именно – ключевые цели и задачи Соединённых Штатов в данном случае были абсолютно другими. Соответственно, американцы действовали на Африканском континенте параллельно с китайцами, но акцентировали своё внимание на совершенно других сферах деятельности. Между тем, США сегодня играют на территории Африки не менее значимую роль, чем Китай.
.

.
Глобальные политика и безопасность
– На чём же именно фокусировались Соединённые Штаты, реализуя свою африканскую стратегию?
– Если китайцы акцентировались главным образом на экономических аспектах своей деятельности, то США изначально делали ставку в первую очередь на геополитическом направлении. То есть, американцы рассматривали Африку как некий объект для обеспечения своего глобального военного развёртывания. Их присутствие на континенте в действительности было направлено на обеспечение всего лишь одной главной цели – создания глубокой линии обороны, критически важной в случае возникновения глобального военно-политического конфликта. Это должно было обеспечить превосходство Соединённых Штатов над любыми геополитическими соперниками во всех возможных конфликтах, в том числе и локальных. Допустим, в предполагаемом вооружённом противостоянии с Ираном.
А поскольку использование Чёрного континента рассматривалось американцами с точки зрения обеспечения военно-стратегической безопасности, соответственно, на первый план для них выходили, в основном, пентагоновские программы и проекты. Недаром же были созданы Африканское командование Вооружённых сил США – AFRICOM (United States Africa Command), да и целый ряд других структур, деятельность которых связано с Африканским континентом. В том числе: Командование Армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF), ВМС (NAVAF) и ВВС (AFAFRICA), сил морской пехоты (MARFORAF) и специальных операций (SOCAFRICA). На территории примерно полутора десятка африканских государств действует около трёх десятков американских военных баз. При этом самый крупный воинский контингент США расположился в Джибути.
Формально главной миссией Соединённых Штатов в Африке считается борьба с терроризмом и пиратством. В действительности же американцы предпочитают как можно дальше держаться от прямых боевых столкновений и в бóльшей степени сосредоточены на расширении своих возможностей по разведке и слежению, обеспечению кибербезопасности, информационных и психологических операциях, защите персонала и объектов США. Совместно с вооружёнными силами африканских стран проводятся военные учения, которые необходимы для глобального развёртывания и противодействия наиболее серьёзным с точки зрения Соединённых Штатов вызовам и угрозам, чтобы в любых обстоятельствах иметь возможность задействовать Африку в своих интересах. В рамках этой работы американцы готовят африканских военных к проведению миротворческих и гуманитарных операций, реагированию на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия, обеспечению поддержки союзных сил и координации логистики. Проводят учения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оружия, перехвату запрещенных грузов и так далее.
Во всяком случае, до конца 2024 года африканская политика США базировалась именно на решении геополитических задач и наращивании стратегического потенциала глобальной безопасности с точки зрения Пентагона. И лишь затем шла экономика – нельзя, конечно, сказать, что по остаточному принципу, но как минимум вторым планом. Экономическая отдача была не так важна. Именно поэтому американцы и упустили тот момент, когда Китай по своему экономическому весу на Африканском континенте стал заметно опережать Соединённые Штаты. Потому, что Китайская Народная Республика (КНР) изначально пришла в Африку фактически под лозунгом: «Никакой политики, никакой идеологии – просто бизнес. И – только бизнес».
Несмотря на это, США также занимались в регионе реализацией серьёзных экономических программ и крупных проектов. И, по большому счёту, пока не слишком сильно проигрывают китайцам по объёмам товарооборота и инвестиций в Африку, а также по экономическому влиянию на континент в целом, как и на отдельные страны в частности. Достаточно сказать, что у каждого американского президента была какая-либо своя африканская «фишка», в том числе и в экономической сфере. Например, у Барака Обамы – масштабная программа AGOA, у Джо Байдена – крупный транспортно-логистический проект «Коридор Лобито» (Lobito Corridor).
.

.
Африканское «наследие Обамы»
– AGOA была интересна как США, так и государствам Африки?
– Несомненно. AGOA (African Growth and Opportunity Act) – преференциальная торговая программа, которая открыла возможность целому ряду африканских стран беспошлинно экспортировать свои товары в Соединённые Штаты. Придумали её американцы, конечно, намного раньше, чем Обама стал президентом, но он эту программу затем активно поддерживал. Принята она была ещё в 2000-м году с целью укрепления сотрудничества США с африканскими государствами, расположенными к югу от Сахары. Условно говоря, последним в ответ на их лояльность предоставлялись весомые стимулы для экономического роста. В частности, льготные таможенные тарифы в рамках AGOA распространялись более чем на 6 тыс. позиций товаров сельского и промышленного производства. В итоге в 2024 году возможностью использовать преимущества этой программы обладали 32 африканские страны.
Показательным примером реализации AGOA может служить, в частности, Эфиопия. Эта страна производит довольно много товаров, которые с успехом отправляются на экспорт. В том числе там прекрасно развито такое направление лёгкой промышленности, как выделка шкур в кожу. Этим в Эфиопии занимались испокон веков, а продукция её кожевенного производства славилась далеко за пределами не только самой страны, но даже и Африканского континента. Высококлассная кожа из Эфиопии экспортировалась в Европу и Америку в качестве сырья для дальнейшего производства целого ряда изделий, в том числе премиальных брендов – кожгалантереи, одежды из кожи, кожаной мебели. Отдельной строкой шла поставка сырья автомобильным и авиационным корпорациям для отделки сидений и салонов транспортных средств высокого класса. Изначально выделка кожи в Эфиопии велась достаточно примитивными способами и методами. Включение же страны в AGOA заметно изменило ситуацию – кожевенное производство поступательно развивалось и совершенствовалось. Таким образом, для Эфиопии, да и для Африки в целом, программа американской поддержки прекрасно работала – действительно помогала, стимулировала и надолго превратилась в один из драйверов развития промышленного потенциала континента.
.

.
Для Соединённых Штатов всё это тоже было крайне выгодно и полезно, правда, до поры до времени. Дело в том, что в Африку зашёл Китай, который стал стремительно превращать её в свою промышленную зону. Например, китайцы приложили руку к тому же кожевенному производству в Эфиопии, предоставили технологии для его совершенствования. И, спустя некоторое время, стало уже довольно сложно разобраться в том, где и кем именно производятся те или иные товары, отправляемые на экспорт с Чёрного континента. Африканцами или китайцами в Африке? Или китайцами в Китае? Но они по-прежнему беспошлинно попадали в США и Европу, что не могло не беспокоить американцев. Ведь, рост беспошлинных поставок уже китайской продукции в Соединённые Штаты через Африку, то есть фактически – реэкспорта, кардинально менял всю суть реализации AGOA.
Напомню, что в 2015 году (спустя 15 лет после начала осуществления этой программы) её действие было продлено ещё на десятилетие – до 2025-го. Возможно, что успешная её реализация предполагала и дальнейшую пролонгацию. Но в середине 2024 года американцы всерьёз занялись вопросом о необходимости внесения существенных корректировок в AGOA с целью устранения возникших в ходе её реализации перекосов. А с возвращением к власти в США Дональда Трампа программу могут и вовсе закрыть.
Повторюсь, поначалу американцы включали в AGOA или исключали из неё африканские страны, отталкиваясь главным образом от принципа их лояльности к Соединённым Штатам. То есть программа использовалась в качестве поощрения, допустим, за заслуги в деле развития демократии или наказания за принятие неких решений, не поддерживаемых американцами. Скажем, Эфиопию выкинули из AGOA из-за вооружённого противостояния в этой стране в 2020-2022 годах между федеральным правительством и властями автономного региона Тыграй. Поскольку США в тыграйском кризисе поддержали не Аддис-Абебу, старавшуюся сохранить территориальную целостность государства, а стремящийся к совершенно противоположному результату «Народный фронт освобождения Тыграя». В итоге выказавших недостаточную лояльность Соединённым Штатам эфиопов наказали, исключив из AGOA.
Сейчас же решается гораздо более масштабная проблема. С высокой долей вероятности новая американская администрация закроет программу, чтобы наказать всю Чёрную Африку за стремительное и слишком тесное экономическое сближение с Китаем. Впрочем, не исключено, что AGOA будет кардинальным образом переработана и в каком-то виде её всё же оставят. Но, в любом случае, прежнего эффекта от работы на этом направлении США получить уже точно не смогут. Как и африканские государства.
.

.
«Коридор Лобито»
– А что с «байденовским» проектом в Африке?
– Хоть его и называют «байденовским», на самом деле такая «привязка» весьма условна. Поскольку торгово-экономическое столкновение Соединённых Штатов с Китаем, по крайней мере – явное, началось ещё в первый срок правления Дональда Трампа. И проект «Лобито» с этим противостоянием связан напрямую.
Основой «Коридора Лобито» является Бенгельская железная дорога.
Бенгельская железная дорога. Создание этого железнодорожного маршрута было инициировано ещё в 1899 году Португальской колониальной империей для вывоза ценных минеральных ресурсов из Центральной Африки через свою колонию – Анголу. Правда, сами португальцы этот проект в итоге не потянули. Поэтому в 1902 году 99-летняя концессия на его осуществление была предоставлена шотландскому предпринимателю и горному инженеру Роберту Уильямсу. Но железнодорожная магистраль от ангольского порта «Лобито» на атлантическом побережье до города Тенке в Бельгийском Конго (сегодня – Демократическая Республика Конго, ДРК) была достроена только к 1931 году. Это стало возможным благодаря сэру Роберту Уильямсу при деятельном участии не только португальской, но и бельгийской колониальных администраций. Впоследствии этот маршрут успешно использовался для вывоза минеральных ресурсов в Европу и Америку не только из Анголы и Конго (на тот момент – Заир), но и из Замбии (тогда – Северная Родезия).
Особенно активно Бенгельская железная дорога стала использоваться в начале 1970-х – в частности, через неё на экспорт отправлялось порядка 60% конголезской и 45% замбийской меди. Однако начавшаяся в 1975 году 27-летняя гражданская война в Анголе привела к закрытию этого экспортного маршрута, а в итоге – к разрушению и деградации железнодорожных путей. Когда в 2002 году междоусобица была остановлена, в рабочем состоянии оказалось примерно 34 км Бенгельской железной дороги или всего несколько процентов от общей её протяжённости.
С остановкой в середине 1970-х экспортного маршрута через Анголу, сырьевые потоки в регионе были диверсифицированы, насколько это, конечно, было возможно. Часть пошла через порт «Бейра» в Мозамбике, до которого та же медь доставлялась автотранспортом (в том числе через Родезию: сегодня – Замбия), в главный порт ЮАР – «Дурбан». В Южной Африке сырьё частично подвергалось обработке, поэтому на экспорт отправлялись уже и продукты его переработки. А буквально в 1976 году в полную силу заработал новый экспортный коридор – Танзамская железная дорога («Танзания-Замбия», Tanzam), построенная для вывоза на мировой рынок центральноафриканской меди через танзанийский порт «Дар-эс-Салам».
Изначально Бенгельская железная дорога практически полностью принадлежала лондонской холдинговой компании Tanganyika Concessions (Tanks) того самого сэра Роберта Уильямса (умер в 1938-м) вплоть до 1923 года, когда её миноритарным акционером стал бельгийский инвестиционный банк Société Générale de Belgique (SGB). А в 1981-м SGB, превратившийся в промышленно-финансовый конгломерат, приобрёл контрольный пакет Tanks, держателем которого оставался до истечения в 2001 году срока концессии, после чего право распоряжаться землёй и инфраструктурой, связанными с Бенгельской железной дорогой, перешло к правительству Анголы.
Все альтернативные маршруты поставки сырья в Европу и США оказались более длинными, сложными и затратными, поэтому, как только в 2002 году гражданская война в Анголе закончилась, рассматривались любые возможности вернуться к использованию Бенгельской железной дороги. И уже в 2004-м тендер на её реконструкцию выиграла китайская государственная China Railway Construction Corporation (CRCC). Контракт на капитальный ремонт стоимостью более 1,8 млрд долларов выполнялся CRCC с 2006 года в рамках программы «железная дорога в обмен на нефть». Но полноценно железнодорожный экспортный маршрут Тенке-Лобиту заработал только в 2018-2019-х, когда в ангольский порт Лобито возобновились поставки руды с конголезских месторождений, где добываются медь и кобальт.
.

.
Повышенный интерес к этому транспортному маршруту американцы открыто проявили лишь в 2023 году, когда Джо Байден неожиданно объявил, что США будут поддерживать развитие «Коридора Лобито» в рамках Партнёрства в интересах глобальной инфраструктуры и инвестиций (Partnership for Global Infrastructure and Investment, PGII). Кстати, PGII – совместная инициатива «Большой семёрки» (G7) по финансированию инфраструктурных проектов в развивающихся странах на основе принципов доверия Blue Dot Network (BDN). А BDN – это многосторонняя организация, которая продвигает инвестиции, особенно со стороны частного сектора, в высококачественные инфраструктурные проекты по всему миру. Реализация программы BDN началась только в 2019 году и была воспринята в мире как копия китайской глобальной инициативы «Пояс и путь». А о планах создания PGII впервые было объявлено в 2022 году на 48-м саммите G7 в Германии. Соответственно, «Коридор Лобито» стал одним из первых стратегических проектов в сфере экономики, запущенных в рамках этого партнёрства. При этом о всесторонней поддержке развития данного транспортного маршрута почти сразу же заявил и Европейский Союз, а, кроме того, США и ЕС пообещали совместно взять на себя крупные финансовые и прочие обязательства по проекту.
В том же 2023 году 30-летнюю концессию на управление Бенгельской железной дорогой получило совместное предприятие Lobito Atlantic Railway (LAR). Победив в тендере, участниками которого были также и китайские компании при всесторонней поддержке КНР. Акционерами LAR выступили сингапурская Trafigura и португальская Mota-Engil, а также бельгийская Vecturis.
.

.
Акционеры Lobito Atlantic Railway:
Trafigura – транснациональная трейдерская компания, занимающая третье место в мире по торговле сырьевыми товарами, уступая только Vitol и Glencore.
Mota-Engil – крупная по европейским меркам строительная группа, которая занимается, в том числе, инжинирингом, созданием и управлением инфраструктурой (включая эксплуатацию портов и транспортных концессий), логистикой. Работает в 25 странах Европы, Африки и Латинской Америки, в Анголе действует с 1946 года.
Интересно, что в 2021 году в состав акционеров Mota-Engil вошла китайская China Communications Construction Co., Ltd. (CCCC), тогда её доля составляла 32,4%. А, по состоянию на начало 2025 года, миноритарными акционерами Mota-Engil являлись The Vanguard Group, Inc. и BlackRock Fund Advisors, представляющие «большую тройку» инвестиционных компаний США.
Vecturis – частный железнодорожный оператор, созданный в 1995 году в Южной Африке со штаб-квартирой в Бельгии. Имеет 25-летний опыт управления и возрождения железных дорог в странах Африки к югу от Сахары.
Концессионное соглашение предполагает расширение всей железнодорожной линии в Анголе и ДРК, а также включает возможности потенциального развития системы на территорию Замбии. За время действия концессии LAR должно инвестировать в проект «Коридор Лобито» порядка 800 млн долларов, в том числе 455 млн – в Анголе и 100 млн – в ДРК. Остальные средства, по озвученным планам, пойдут на строительство новой железнодорожной ветки, которая соединит Анголу с Замбией – предполагается, что это произойдёт к 2029 году. При этом, если будут достигнуты пороговые значения инвестиций, концессия может быть продлена ещё на 20 и даже более лет – исключать такой сценарий было бы неправильно, поскольку коллективный Запад во главе с США уже оценил объём необходимых инвестиций в реализацию задуманного проекта в пределах 1-2,3 млрд долларов.
.

.
– Почему «Коридор Лобито» вдруг оказался так важен для США?
– Американцы слишком сильно увлеклись геополитикой и на какое-то время перестали уделять должное внимание геоэкономике. А, ведь, это – очень тесно взаимосвязанные вещи. Ситуацией очень грамотно воспользовались китайцы, которые сосредоточились на том, чтобы занять все свободные ниши и получить в своё распоряжение как бесхозные, так и недостаточно эффективно контролируемые коллективным Западом активы. В итоге всё пришло к тому, что целые сектора мировой экономики, включая ценнейшие ресурсы, их производственно-технологические и логистические цепочки, оказались чуть ли не полностью в руках КНР. И американцы уже не могли себе позволить и дальше никак на это не реагировать, поскольку речь пошла уже о потенциальной угрозе экономике США, да и коллективного Запада в целом. Поэтому буквально в последние годы американцы определили одним из своих главных приоритетов – беспрепятственный доступ к так называемым критическим минералам. Прежде всего, для себя, но и для своих союзников – тоже. Кстати, это и стало одним из важнейших аспектов резкого охлаждения отношений Соединённых Штатов с Китаем, которое даже называют торговой войной.
Проект «Коридор Лобито» как раз и демонстрирует резкую смену внешнеполитического курса США. Или, скорее, его серьёзную корректировку, поскольку ключевые пентагоновские программы и проекты американцы отменять вовсе и не собираются.
Бенгельская железная дорога проходит через богатые минеральными ресурсами районы Африки к югу от Сахары, соединяя южную и центральную часть континента, а также обеспечивая доступ к Восточной Африке и выход к Атлантическому океану. Её изначальное предназначение – быстрая и эффективная доставка сырья с месторождений ценных полезных ископаемых, расположенных в не имеющих выхода к морю африканских странах в порт «Лобито» на атлантическом побережье, расположение которого наиболее удобно для экспортных поставок именно в Соединённые Штаты и Европу. И это – самый короткий и выгодный с экономической точки зрения для этого маршрут. Вдоль «Коридора Лобито» расположены крупные месторождения полезных ископаемых, в том числе тех, что относят к категории критических минералов. В частности, меди, кобальта и редкоземельных металлов, обеспечение беспрепятственного доступа к запасам и цепочкам поставок которых и стало к настоящему времени одной из первостепенных задач коллективного Запада во главе с США. Одновременно с этим проект стал и важным конкретным шагом непосредственно в пределах Чёрного континента по противодействию доминирующему положению Китая на глобальном рынке критических минералов.
.

.
Китайская угроза
– Как вы оцениваете перспективы достижения в рамках этого проекта упомянутых целей США?
– Велика вероятность того, что с корректировкой своего внешнеполитического курса Соединённые Штаты слишком сильно запоздали. По крайней мере, в Африке.
Дело в том, что, когда, после завершения гражданской войны в Анголе, Китай по контракту с правительством страны взялся за восстановление Бенгельской железной дороги, делал он это далеко не просто так, а имел большие планы на её дальнейшее использование в рамках инициативы «Пояс – путь». Поэтому параллельно КНР инвестировала миллиарды долларов, в том числе и вдоль этого транспортного маршрута, в целый ряд африканских проектов, включая и инфраструктурные, подписав соответствующие соглашения почти со всеми государствами Африки.
Как результат – сегодня влияние Китая распространяется далеко за пределы Бенгельской железной дороги. Ведь, помимо собственно её модернизации, китайцы занимались расширением и углублением ангольского порта «Лобиту», развитием современной системы автотранспортного сообщения в регионе, освоением близлежащих месторождений наиболее ценных природных ресурсов и так далее. И практически всё, во что они инвестировали, так или иначе, находится в ведении именно китайских компаний. Де-факто они контролируют меднорудный пояс ДРК и Замбии, владея ключевыми или крайне значительными долями в проектах разработки запасов таких критических минералов, как, например, медь и кобальт.
Достаточно сказать, что порядка 80% крупнейших действующих медных рудников в ДРК, по сути, «принадлежит» Китаю, который одновременно контролирует около 76% объёмов добычи конголезского кобальта и 85% редкоземельных металлов. При этом лишь совсем небольшая часть добываемого в регионе сырья перерабатывается на Африканском континенте – подавляющие его объёмы отправляются на переработку за его пределы. Причём, не куда-нибудь, а непосредственно в КНР. Что и немудрено, ведь именно Китай контролирует порядка 70-80% мировой переработки кобальта. И не менее половины всех объёмов производства конечных продуктов, для которых этот элемент остаётся одним из ключевых – допустим, аккумуляторов. А, кстати, самыми крупными запасами кобальта в мире (как минимум около двух третей в глобальном масштабе) обладает как раз ДРК.
Компании, представляющие коллективный Запад, занимающиеся освоением ценных минеральных ресурсов вдоль «Коридора Лобито», тоже, конечно, есть. Например, добывающая более половины всей меди в Замбии First Quantum Minerals Ltd. базируется в Канаде. Однако вторым по величине её акционером остаётся китайская Jiangxi Copper Corp Ltd. А, допустим, в ДРК канадская же Ivanhoe Mines Ltd. участвует в создании меднодобывающего комплекса, который обещает стать крупнейшим в Африке. Но делает она это совместно с китайской же Zijin Mining Group Co. Поэтому весьма значительная часть африканской меди тоже отправляется на переработку в КНР, где уже сейчас обрабатывается свыше 40% мировых объёмов соответствующего сырья. И, судя по всему, этот показатель будет расти и дальше, как минимум за счёт увеличения поставок из Африки.
.

.
– Разве в Африке канадцы не придерживаются политики, проводимой коллективным Западом во главе с Соединёнными Штатами?
– В африканской горнодобывающей отрасли весьма активно действуют не только канадские, но, к примеру, и австралийские частные компании. Если говорить о континенте в целом, их суммарные инвестиции оцениваются примерно по 40 млрд долларов на каждую из этих двух сторон. В Африке они работают, как правило, в тесной связке с южноафриканскими компаниями. Последние выступают субподрядчиками, поскольку именно юаровцы лучше кого бы то ни было знают Чёрный континент, а, кроме того, предоставляют в регионе самые качественные сервисные услуги в области геологоразведки и разработки недр. Между тем, все осуществляемые ими проекты – чисто про бизнес, завязанный исключительно на поиск и освоение минеральных ресурсов. Никакой политики, никаких «зелёных», «голубых» или каких-либо других повесток. Главная их цель – получение максимальной прибыли.
Причём, те же канадцы, занимая ведущие позиции в секторе поиска и разведки полезных ископаемых ряда африканских стран, зачастую даже предпочитают не доводить дело до стадии добычи. Проводят геологоразведку, фиксируют открытия и выставляют значительно подорожавшие после этого активы на торги. И, в принципе, готовы продать их кому угодно – американцам, китайцам и даже российским компаниям, если те предложат лучшую цену. Кстати, наглядным примером подобных сделок могут служить некоторые приобретения Nordgold. По крайней мере, до последнего времени она владела действующими рудниками в Буркина-Фасо и Гвинее. Хотя, конечно, сейчас сложно сказать насколько эта компания, зарегистрированная и базирующаяся в Великобритании, остаётся российской.
Беседу вёл Денис Кириллов
Продолжение следует…