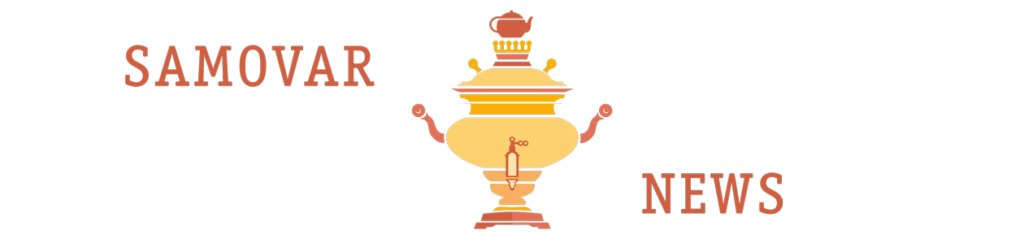– Станислав Васильевич, считается, что в ближайшие 10-15 лет Африка станет новым драйвером мирового развития, заняв место Азии, которая играла эту роль со второй половины минувшего века. Какие именно государства Чёрного континента имеют наибольший потенциал для превращения в локомотивы экономического роста?
– Огромное количество минеральных ресурсов, высокая численность работоспособного населения, а также наличие в регионе востребованных в глобальном масштабе логистических центров и маршрутов – всё это действительно позволяет говорить о перспективах стремительного повышения значимости Африканского континента для мировой экономики. В соответствии с прогнозами практически всех авторитетных финансовых и экономических организаций, в ближайшие четыре-пять лет именно Африку ожидает наиболее заметный экономический подъём. Начиная, кстати, как раз с текущего – 2025 года.
.

Станислав Мезенцев
.
Перспективы роста
– В частности, Международный валютный фонд (МВФ) предполагает, что в период с 2026-го по 2029 год темпы роста реального ВВП (макроэкономический показатель совокупной стоимости всех произведённых товаров и услуг, скорректированный с учётом изменения цен), если брать в целом все африканские государства, будут стабильно держаться в пределах 4,3-4,4% в год. Напомню, что по итогам 2024-го этот показатель составил 3,2%, в 2025-м – ожидается на уровне в 3,8%. В том числе, благодаря динамичному развитию экономик африканских стран к югу от Сахары – здесь рост реального валового внутреннего продукта будет идти ещё более заметными темпами и к 2027-му может достичь уровня как минимум в 4,5% в год. В то же время рост реального ВВП государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) будет постепенно замедляться. Например, для Китайской Народной Республики (КНР) этот показатель может сократиться с 5% в минувшем году до чуть менее 4% в текущем. А дальше прогнозируется ежегодное снижение, и к 2029-му он уже не превысит и 3,5%. При этом, по данным МВФ, рост реального ВВП всей мировой экономики, составивший в 2024 году лишь 3%, в 2025-2026-х должен несколько увеличиться – примерно до 3,2-3,3% в год. Но в среднесрочной перспективе снова опустится до 3%, а, может быть, и ниже.
Естественно, что инвесторы за такими тенденциями наблюдают очень и очень внимательно, и, соответственно, глобальный капитал всегда движется в направлении наиболее перспективных рынков. Поэтому, если не случится каких-нибудь непредвиденных ситуаций, которые способны все эти тренды нивелировать, то 2025-2026 годы станут ключевыми для начала мощного рывка экономики Африканского континента вперёд.
К тому же, нужно иметь в виду, что остановить прогресс, наметившийся на втором по величине после Евразии материке, практически невозможно, поскольку Африка, особенно та её часть, что южнее Сахары, находится довольно далеко от любого из ключевых эпицентров даже потенциально возможных геополитических взрывов. Не говоря о тех, что уже назрели или случились.
Между тем, не нужно забывать, что Африка очень разная, и, соответственно, африканские страны развиваются крайне неравномерно.
.

.
Масштабы экономик
– Какие из государств Субсахарской Африки в настоящее время можно считать наиболее экономически развитыми?
– Макроэкономические показатели, к сожалению, не способны показать исчерпывающей картины, но, опираясь на них, можно получить некоторое, хоть и достаточно общее, представление о реальной ситуации на Чёрном континенте. Например, чтобы оценить масштабы экономик африканских государств, достаточно сравнить объём их номинального ВВП (суммарная стоимость всех товаров и услуг, рассчитанная без учёта инфляции). Будем отталкиваться от оценок МВФ на 2025 год, и не станем брать в расчёт Северную Африку, поскольку этот регион лучше рассматривать в контексте анализа ситуации на Большом Ближнем Востоке.
Итак, крупнейшими африканскими странами по объёму номинального ВВП выступают (в порядке убывания) Южно-Африканская Республика (ЮАР), Нигерия, Кения, Эфиопия, Ангола, Кот-д’Ивуар, Гана, Танзания, Демократическая Республика Конго (ДРК) и Уганда. При этом в мировом рейтинге африканский лидер – ЮАР (410 млрд долларов США) – занимает лишь 39 позицию, уступая Колумбии и Гонконгу (38 место), и опережая Румынию (40 место). Для сравнения: номинальный ВВП стабильно удерживающих в глобальном списке первую и вторую позицию США и Китая составляет соответственно 30,5 трлн и 19,2 трлн американских долларов, а, допустим, России (11 место) – около 2,08 трлн. В то же время в топ-10 стран Субсахарской Африки по номинальному валовому внутреннему продукту ЮАР – бесспорный лидер. Ведь, объём экономики следующей сразу за ней Нигерии не превышает 188,3 млрд, а замыкающей десятку африканских фаворитов Уганды – и вовсе 64,3 млрд долларов.
Пересчёт величины ВВП по паритету покупательной способности (ППС) в текущих ценах позволяет получить более точное представление об экономике, поскольку демонстрирует реальные возможности населения приобретать товары и услуги с учётом инфляционных процессов, а также изменения курсов национальных валют. ВВП по ППС исчисляется в международных долларах. Это условная расчётная денежная единица, также известная как доллар Гири-Хамиса, которая применяется при сопоставлении макроэкономических показателей различных стран мира. И, если сравнивать африканские государства по паритету покупательной способности (ВВП по ППС), картина заметно меняется.
.

.
Здесь в десятку лидеров входят (по убыванию) Нигерия, ЮАР, Эфиопия, Ангола, Кения, Гана, Танзания, Кот-д’Ивуар, ДРК и Уганда. Как и в случае с номинальным ВВП, практически все страны в этом топ-10 также следуют друг за другом с большим отрывом.
Показательно, что в соответствующем мировом рейтинге африканский лидер – Нигерия (почти 1,585 трлн международных долларов) – находится на 27 позиции, между Пакистаном (26 место) и Нидерландами (28 место). При этом вовсе не Соединённые Штаты (30,5 трлн) возглавляют глобальный список, а Китай (40,7 трлн). Кстати, Россия занимает четвёртую позицию (порядка 7,2 трлн) – после КНР, США и Индии (почти 17,7 трлн).
Ещё более интересная картина складывается, если данные ВВП по ППС разделить на количество жителей страны. Ведь, по большому счёту, не так важно сколько государство заработало в целом и как много благ на эти средства можно теоретически приобрести, если, даже разделив общий доход между населением поровну, каждому жителю по факту могут достаться лишь крохи от общих благ. Тем временем, при пересчёте ВВП по ППС на душу населения (этот показатель также исчисляется в международных долларах), топ-10 экономических лидеров Чёрной Африки выглядит уже следующим образом (по убыванию): Сейшельские Острова, Маврикий, Габон, Экваториальная Гвинея, Ботсвана, ЮАР, Эсватини, Намибия, Кабо-Верде и Ангола.
.

.
Оптимальное соотношение
– Исходя из этих данных, наиболее состоятельными в экономическом плане государствами Чёрной Африки в основном являются далеко не самые крупные страны?
– За редким исключением, но – да. А связывает их всех главным образом относительный баланс между темпами экономического развития и роста населения, позволяющий сохранять более или менее оптимальное соотношение масштаба экономики и численности граждан.
Например, Республика Сейшелы – самая маленькая страна в Африке, площадь которой составляет всего 459 кв. км (по этому показателю она занимает 180 место в мире из 193 государств), где проживает лишь около 133 тыс. человек. Фактически основой экономики Сейшел являются туризм и банковская деятельность в связке с классической офшорной зоной – почти 85% объёма экономики этого островного государства занимает сектор услуг. Никакими другими ценными ресурсами или возможностями Сейшелы особо и не обладают. Поэтому вполне естественно, что по номинальному ВВП Сейшельские Острова занимают 175 место в мировом рейтинге и 51-е – в африканском (из всех 54 стран), по ВВП (по ППС) – соответственно 178-е и 52-е.
Несмотря на то, что в африканском топ-10 по ВВП (по ППС) на душу населения Сейшелы лидируют, в глобальном списке это государство находится лишь на 54-й позиции. Кстати, в первую пятёрку мирового рейтинга по ВВП (ППС) на душу населения входят (по убыванию) Сингапур, Люксембург, Ирландия, Катар и Норвегия. США – в глобальном топ-10 на девятом месте, Россия занимает 43 позицию, а Китай – и вовсе 72-ю, что и немудрено, учитывая численность населения КНР.
.

.
Но вернёмся к Чёрному континенту. За Сейшелами в африканском рейтинге идёт Республика Маврикий – ситуация в этих островных государствах очень схожая. Одни из самых богатых и дорогих в Африке курортов, где отдыхают в основном швейцарцы и немцы. Каждый день двухэтажный Airbus А380 прилетает туда из Дубая, доставляя туристов со всего мира. И – всё те же офшорные зоны, через которые проходят миллиарды долларов, обеспечивающие финансирование множества проектов на Африканском континенте. Территория здесь, правда, почти в 4,5 раза больше, чем на Сейшелах, а количество жителей – чуть ли не в 10 раз. Но в глобальном масштабе это всё равно сравнительно немного, а главное – не меняет сути сложившегося социально-экономического уклада.
Габонская Республика – тоже относительно небольшая страна: немногим меньше Новой Зеландии, но покрупнее Великобритании. С населением около 2,5 млн человек – даже в Африке по этому показателю она занимает лишь 43-ю позицию, а в мире – и вовсе 146-ю. Основой экономики Габона остаётся поставка на мировой рынок главным образом нефти и нефтепродуктов, которые являются ключевыми экспортными товарами (порядка 80% от общего объёма продаж за рубеж), а также марганцевой руды и урановых концентратов. При этом Габон – бывшая колония Франции, и в нефтяном секторе страны по-прежнему доминируют именно французские компании, такие, в частности, как TotalEnergies и Maurel&Prom. Разработкой габонских месторождений марганца и урана также занимаются в основном французы, но и американцы. А поскольку страна получает весьма значительную часть своего национального дохода за счёт ренты, выплачиваемой иностранцами за пользование недрами, Габонская Республика в значительной степени является государством-рантье.
.

.
За объяснениями – почему сложилось именно так, а не по-другому – далеко ходить не надо. Начиная с 1967 года, Республикой Габон почти 42 года бессменно правил президент Омар Бонго Ондимба. Он даже намеревался в очередной раз занять «свой пост» на выборах 2012 года, но в 2009-м – умер. Страну возглавил его сын – Али Бонго Ондимба, которого в 2023 году свергли в ходе государственного переворота военные под предводительством генерала Бриса Олиги Нгемы. Последний сначала стал временным президентом на переходный период, а в 2025-м был избран на пост главы государства по итогам выборов, набрав почти 95% голосов избирателей.
Суть в том, что, по крайней мере, до последнего времени правителей Габона вполне устраивала роль государства-рантье, которую играла их страна. Хотя нужно понимать, что это, вкупе с сырьевой моделью экономики, а также её зависимостью от экспорта нефти и минералов, серьёзно замедляет темпы экономического развития. Конечно, Габонская Республика входит в африканский топ-10 государств по ВВП (ППС) на душу населения, но в мировом рейтинге она занимает лишь 79-ю позицию, поскольку на самом деле мало что может предложить своим гражданам.
Не исключено, что с приходом к власти Бриса Олиги Нгемы ситуация начнёт меняться в лучшую сторону. Но не лишним будет заметить, что мать нового президента Габона приходится двоюродной сестрой Омару Бонго Ондимбе, поэтому низложенный военными президент Али Бонго тоже является его родственником. Кстати, Брис Олиги Нгема служил адъютантом Омара Бонго до самой его смерти и, как утверждается, клялся в своей верности установленному им режиму.
.

.
Но – идём дальше. Если Маврикий во многом похож на Сейшелы, то Экваториальная Гвинея – на Габон. Маленькая территория (меньше Армении, но больше Северной Македонии), относительно небольшое население (между Словенией и Латвией), с 1979 года и по настоящее время бессменно управляется одним и тем же человеком, пришедшим к власти посредством государственного переворота. По продолжительности своего правления президент Экваториальной Гвинеи – Теодоро Обианг Нгема Мбасого – является бесспорным лидером среди всех действующих немонархических глав государств мира.
После обретения в 1968-м независимости эта бывшая колония Испании довольно долгое время оставалась одной из беднейших стран на всех пяти обитаемых континентах. Однако с открытием крупных запасов нефти и началом с 1990-х годов их активной разработки ситуация резко изменилась. И сегодня нефтегазовая промышленность – основа экономики страны. Правда, «Великий освободитель Экваториальной Гвинеи», а именно такое почётное звание присвоил себе Теодоро Обианг Нгема Мбасого, отдал сектор углеводородов на откуп транснациональным корпорациям. Таким, как, например, американские ExxonMobil и Chevron. И в Африке появилось очередное государство-рантье, которое занимает в глобальном рейтинге стран по ВВП (ППС) на душу населения 92-е место.
Далее – Ботсвана. Эта страна некоторым образом выделяется среди других африканских государств. Она – относительно маленькая, но довольно стабильная. И с очень интересной историей. По территории она располагается в мировом списке стран между Кенией и Францией, население – чуть менее 2,6 млн человек.
.

.
В колониальные времена эта территория была частью Родезии. В ходе последующего передела Африки в 1961 году сформировалась ЮАР, в 1964-м Северная Родезия стала Замбией, в 1965-м независимость провозгласила Южная Родезия (в 1980-м превратилась в Зимбабве). Однако между Южной Родезией и ЮАР оказалась как будто никому не нужная пустынная территория – британский протекторат Бечуаналенд. В отличие от соседних стран, там не было ни развитого сельского хозяйства, ни ценных минералов, ни каких-либо других перспективных ресурсов. По крайней мере, так все тогда думали. Даже британцы решили, что за этот бесполезный кусок земли копий ломать не стóит. И в 1966 году Бечуаналенд получил независимость и новое название – Ботсвана.
Правда, в то время как запасы ценных минеральных ресурсов соседней ЮАР постепенно истощались, неожиданно выяснилось, что в недрах Ботсваны богатства не просто есть, но и весьма значительные. И страна, что называется, зажила́. Сегодня она занимает второе место в мире (после России) по запасам алмазов, объёмам их добычи и поставок на глобальный рынок. Именно этот сектор формирует треть национального ВВП и 90% доходов от всего экспорта. Раньше там никто особо и жить-то не хотел, а сейчас стоимость земли, наверное, сравнимо с аналогичным показателем в США.
Месторождения алмазов в Ботсване в 1967 году обнаружила компания De Beers, которая сегодня и занимает в стране ключевое место в секторе добычи этого ценного ресурса. Штаб-квартира корпорации, которую называют южноафриканско-британской, расположена в Лондоне. С 2012 года её главным владельцем (85%) является британская горнодобывающая группа Anglo American, основанная в ЮАР.
Между тем, акционерами этой группы выступают такие американские структуры, как Vanguard, BlackRock, Capital Research and Management Company (дочка Capital Group Companies) и Wellington Management Group. А также, например, норвежские Государственный пенсионный фонд «Глобальный» (Government Pension Fund Global, известный как «Нефтяной фонд») и Norges Bank Investment Management (филиал Norges Bank), полностью принадлежащая правительству ЮАР компания по управлению активами Public Investment Corporation и крупнейший инвестиционный фонд Швейцарии UBS Asset Management.
.

.
Миноритарным акционером De Beers (15%) выступает правительство Ботсваны. И это вполне понятно, ведь именно в этой стране «южноафриканско-британская» корпорация добывает чуть ли не 80% всех своих алмазов. При этом утверждается, что разработку месторождений в Ботсване De Beers ведёт не иначе, как в тандеме с государством. Однако участники этого тандема далеко не так равноправны.
Для работы в стране ещё в 1969-м на паритетной основе было создано совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны – Debswana Diamond Company, которое полностью контролирует сектор производства алмазов. В то же время доли раздела продукции между участниками этого СП до сих пор неодинаковы. Ещё не так давно, с 2011 года, De Beers забирала себе 90% всего добываемого в Ботсване сырья (необработанных алмазов). В 2020-м властям республики удалось добиться увеличения своей доли получаемой продукции до 25%, в 2023-м – до 30%. И лишь к 2033 году доли партнёров должны сравняться – только тогда правительство Ботсваны начнёт получать половину всех добытых в своей стране необработанных алмазов.
В этом контексте, наверное, никому не нужно объяснять, почему в глобальном рейтинге государств по ВВП (ППС) на душу населения Ботсвана занимает лишь 97 позицию.
Все остальные лидеры африканской десятки, даже ЮАР, не входят в мировой топ-100 по этому показателю. Впрочем, этот макроэкономический подход тоже не даёт всех ответов – речь идёт об условном среднем доходе, который не является реальным для каждого гражданина той или иной страны, и ничего не говорит о действительном уровне жизни населения. Ведь, неравенство между богатыми и бедными никто не отменял. И, допустим, в той же Экваториальной Гвинее, которая, казалось бы, страна богатая, порядка 70% населения живёт в крайней бедности, вызванной как раз этим самым неравенством в благосостоянии.
.

.
Уровень развития
– Поэтому, чтобы ещё более детально разобраться в текущем положении дел, разработаны дополнительные индикаторы, такие, например, как индекс человеческого развития (ИЧР), а затем и ИЧР с поправкой на неравенство. Оба они являются инструментами измерения качества жизни населения, благосостояния граждан и, в конечном итоге, уровня экономического развития страны, с учётом дохода по паритету покупательной способности на душу населения, а также качества и доступности здравоохранения (долгая и здоровая жизнь) и образования (получение знаний и возможности их применения). Однако собственно ИЧР представляет собой лишь средний показатель или, другими словами, демонстрирует потенциально возможный уровень жизни, который мог быть достигнут при условии отсутствия серьёзного разрыва между богатыми и бедными гражданами. А ИЧР с поправкой на неравенство показывает близкую к реальности ситуацию с распределением благ и ресурсов внутри каждой отдельно взятой страны. Сравнение этих двух индексов – ИРЧ (потенциально возможный уровень жизни) и ИРЧ с поправкой на неравенство (реальное распределение благ) позволяет определить существует ли в том или ином государстве пропасть между богатыми и бедными, и насколько она велика.
По данным ООН, мировыми лидерами по ИЧР выступают (по убыванию) Исландия, Норвегия, Швейцария, Дания и Германия. США – на 17-м месте, Россия – на 64-м, Китай – на 78-м. При этом США и Россия по индексу ИЧР относятся к категории государств «с очень высоким уровнем развития», а КНР – просто «с высоким». Если же перейти к Африканскому континенту, включая даже Северную Африку, здесь только два государства относятся к категории «с очень высоким уровнем развития» – Сейшелы и Маврикий. В глобальном списке они находятся соответственно на 54-й и 73-й позициях. Из стран, что южнее Сахары, лишь три входят в рейтинг государств «с высоким уровнем развития» – ЮАР, Габон и Ботсвана, занимая в мировом списке 106-е, 108-е и 111-е места.
С поправкой на неравенство картина несколько меняется. Глобальные лидеры (по убыванию) – Исландия, Норвегия, Дания, Швейцария и Нидерланды. США – на 29-м месте, Россия – на 46-м, Китай – на 67-м. В мировом топ-100 только Сейшельские Острова (49-я позиция) и Маврикий (69-я) – больше ни одна из стран Чёрной Африки сюда не входит.
– Уровень жизни, допустим, на Маврикии, по вашему мнению, действительно высок?
– Без всякого сомнения, особенно по африканским меркам. Сколько раз мне не приходилось там бывать, никак не мог себя заставить поверить в то, что нахожусь в Африке.
.

.
Огромный потенциал
– Всё это прекрасно, но, ведь, очевидно, что ни Маврикий, ни Сейшелы, ни даже Ботсвана с Габоном не имеют достаточного потенциала, чтобы превратить Чёрный континент в новый драйвер развития глобальной экономики. Тогда о каких странах здесь может идти речь?
– Прежде всего, о тех, которые обладают наибольшим количеством ценных для мира ресурсов, включая и работоспособное население. Полезные ископаемые Чёрного континента до сих пор недостаточно хорошо разведаны – это ещё только предстоит сделать. Но уже сейчас понятно, что локомотивами экономического развития Африки с наибольшей вероятностью могут стать ДРК, Замбия, Нигерия, Эфиопия, Танзания, Кения, Уганда, Ангола, Гана, Мозамбик и Нигер. И, по-видимому, ещё целый ряд стран, что южнее Сахары. Их потенциал – огромен. Но, чтобы раскрыть его в полной мере, необходимо создать подходящие условия.
– Что мешает сделать это уже сейчас?
– Население самых богатых с точки зрения природных ресурсов и даже масштаба их нынешней экономики африканских государств пока остаются одним из беднейших не только в мире, но даже и на своём континенте. Потому, что все эти страны достаточно сильно перенаселены, а в дополнение к этому там очень низкий уровень грамотности. Как результат – развитие экономики не поспевает за демографическим ростом и тормозится из-за текущих проблем.
Сегодня численность жителей, к примеру, Нигерии – 235,8 млн человек, Эфиопии – 134,2 млн, ДРК – 111,5 млн. Китай и прочие ведущие глобальные игроки вкладывают в эти и многие другие африканские страны миллиарды долларов инвестиций, благодаря чему на Чёрном континенте наблюдается поступательный экономический рост. В то же время в целом эти государства остаются бедными, большинство граждан – нищими. Потому, что эти страны просто не в состоянии сами себя прокормить и обеспечить всем необходимым. Где-то, конечно, ситуация получше, где-то похуже. Допустим, в Уганде спасаются тем, что многие сельские жители имеют собственные наделы земли, на которых развито натуральное хозяйство. Там, если не будет засухи или урагана, выжить можно. Но – именно выжить, а не развиваться, поскольку всех проблем это не решает. Между тем, для того, чтобы государства Африки начали, наконец, бурно развиваться – так, как от них этого ждут в соответствии с упомянутыми прогнозами, – население этих стран должно выбраться из нищеты.
.

.
– Но как?
– На самом деле, самое главное во всей этой истории – грамотность населения. Не инфраструктура, не дороги и порты, не месторождения ценных минералов, хотя и это всё, безусловно, важно, а именно уровень образования. По существующим оценкам, в государствах Западной Африки, в том числе и тех, где не так давно произошли военные перевороты, текущий уровень грамотности порядка 40%, а в некоторых странах и ещё ниже. Для сравнения: средний уровень образованности населения на Маврикии и Сейшелах – порядка 90%.
А для того, чтобы государство хотя бы не схлопнулось и не превратилось в подобие ДРК, где последние лет 20, по сути, продолжается гражданская война, степень образованности его граждан должна быть как минимум 40%. Но это всего лишь не позволит ему свалиться в Ад. Для того же, чтобы развиваться и расти, нужно достичь хотя бы 60%, для стремительного роста – не менее 70%. Но не нужно думать, что это так просто. По имеющимся расчётам, западноафриканским странам понадобится в лучшем случае 10 лет, чтобы выйти на уровень грамотности населения в 50%, а некоторым из них – и 20.
Соответственно, фактически все эти разговоры о том, что Китай, США или ещё кто-то, а лучше, если они все вместе, спасут Африку, развивая там инфраструктуру и осваивая недра, и что главный драйвер африканской экономики – это энергетика, мягко говоря, лишь отвлекают от решения реальных проблем. Потому, что ключевой драйвер развития, который действительно позволит государствам Чёрного континента выйти из любой сложной ситуации, – образование. Естественно, что и энергетика здесь тоже важна, но сейчас она имеет далеко не первостепенное значение.
В последнее время стало модным ругать бывшие метрополии за то, что они грабили свои колонии, и требовать от них сатисфакции. И это правильно. Однако главный вред, который колонизаторы нанесли Африке, вовсе не в этом. Ведь, хотя колониальной системы давно уже и нет, вряд ли можно утверждать, что сегодня все условия разработки и вывоза ценного сырья с Чёрного континента иностранными компаниями абсолютно честны и справедливы по отношению к принимающей стороне. И, кстати, одна из причин этого – всё тот же недостаточно высокий уровень грамотности населения африканских стран. Вот в этом главным образом как раз и виновны бывшие метрополии. Они не только никогда серьёзно не занимались развитием образовательного процесса в своих колониях, но даже напротив – делали всё, чтобы его затормозить. Ведь, чем неграмотней население, тем колонизаторам было выгодней. Речь, конечно, идёт об отношении к населению колоний в целом, к африканской элите был несколько другой подход, но это уже тема отдельного разговора.
.

.
После развала колониальной системы во многих государствах Чёрного континента власть получили местные царьки – как раз из той самой африканской элиты, которые переняли значительную часть пагубных практик своих иностранных предшественников. В том числе они фактически продолжали держать свои народы в неведении, поскольку малограмотным населением гораздо легче управлять. Как говорится, меньше знаешь – крепче спишь. В результате Африка глобально отстала в своём развитии от большинства других регионов мира. Например, от Азии, включая даже такие страны, как, допустим, Пакистан или Бангладеш. Именно потому, что большинство африканского населения остаётся крайне слабо образованным. Опять же – не элита, она давно уже проходит через Оксфорды, Кембриджи и так далее, а весь остальной народ.
Вместе с тем нужно отметить, что в тех африканских государствах, которые сегодня считаются наиболее экономически развитыми – всё те же Сейшелы и Маврикий, а также, например, Гана и Кения, уровень образования населения заметно выше, чем во многих других странах континента. И это – неспроста. Дело в том, что существуют большие различия между бывшими колониями Великобритании и, допустим, Франции. Потому, что у английского и французского колониализма были разные концепции развития. Британская модель предполагала культурную интеграцию жителей завоёванных территорий, французская – ассимиляцию. Соответственно, англичане не просто захватывали территории, а сначала отправляли туда своих миссионеров, чтобы подготовить коренных жителей к широкомасштабному приходу Британской империи. Для наилучшей адаптации британцы старались обратить местные народы в свою веру, привить им свои культуру, духовные ценности и социально-экономические институты. А для этого их нужно было научить читать, писать, считать и так далее.
Поэтому за миссионерами шли администраторы и только затем – военные. При этом миссионерские школы продолжали работать, обучая туземное население медицине (при школах действовали поликлиники), аграрному делу, управлению, документообороту, организации правопорядка и прочему. Во французских колониях ничего этого, по большому счёту, не было. Поэтому и между уровнем образования бывших британских и французских колоний остаётся определённый, достаточно серьёзный перекос. И хотя, как Франция, так и Великобритания нещадно эксплуатировали природные ресурсы Чёрного континента и его население, жители государств Западной Африки, которые находились под колониальным правлением французов, до сих пор остаются значительно менее грамотными, чем граждане стран Африки Восточной.
.

.
Достаточно сказать, что в Восточной Африке в полтора раза больше общеобразовательных школ, чем в Африке Западной. Например, в Уганде – огромное количество таких образовательных учреждений, но продолжают строиться и новые школы, деятельность которых направлена на повышение грамотности населения не только в крупных городах, но и в самых отдалённых провинциях. В то же время, по данным ЮНЕСКО, в таких странах, как Мали, Нигер, Буркина-Фасо, Гвинея, Бенин и Сьерра-Леоне, до последнего время системы всеобщего обязательного среднего образования и вовсе не существовало. Поэтому и нет ничего удивительного в том, что, по данным ООН, те же Нигер, Мали и Буркина-Фасо входят в список государств с самым низким уровнем грамотности взрослого населения – неграмотными в этих странах остаются порядка 30-40% жителей. В целом же по Африке образование не получают почти 100 млн детей и молодёжи, многие из которых, особенно к югу от Сахары, вообще не умеют читать и не понимают даже самых простых текстов.
Поэтому, первое, что нужно сделать, чтобы положение на Чёрном континенте улучшилось, – поднять уровень грамотности населения, а, соответственно, необходимо очень серьёзно заняться совершенствованием и развитием системы образования. И второе, что критически важно, – контроль рождаемости.
.

.
Перенаселение
– Африканцы – самая многочисленная, молодая и дешёвая рабочая сила для очередного рывка мировой экономики вперёд. Для глобальных игроков это просто прекрасно, но для самой Африки перенаселение – одна из главных сейчас проблем, которая, вместе с низким уровнем образования, тормозит развитие континента.
С людьми, особенно в бедных районах, не ведётся никакой разъяснительной работы, что родить ребёнка – значит взять на себя ответственность не только за его здоровье и пропитание, но также за воспитание и образование. Условия жизни в Африке способствуют тому, что, поскольку в деревнях нет света, по ночам заниматься нечем, и одно из немногих доступных в такой ситуации развлечений как раз и становится причиной рождения всё новых и новых детей. Причём, в большинстве африканских стран, особенно не сильно богатых, девочки беременеют уже с 12-летнего возраста.
Вторая причина – в африканской глубинке считается, что, чем больше детей, тем лучше, поскольку они будут помогать в хозяйстве – пахать, сеять, собирать урожай и так далее. Ведь, всё это до сих пор делается в сельской местности главным образом вручную. Но, заведя в такой ситуации 6-10 детей, родители в большинстве своём не способны ни дать им воспитание, ни обеспечить образование. В значительной степени уровень грамотности там низкий как раз потому, что учиться некогда – нужно сызмальства работать, чтобы прокормить всю семью.
Хорошо ещё, если отец не бросит, как здесь происходит сплошь и рядом, и не заведёт себе ещё трёх жён, которые в дополнение ко всему нарожают ещё по пять-шесть детей. А потом окажется, что денег нет даже на то, чтобы всех своих детей даже просто прокормить. И вся Африка от этого страдает. Возьмём, к примеру, Эфиопию – там демографический прирост составляет чуть ли не 10 тыс. человек в сутки, а это – свыше 3,5 млн в год. И кто их всех будет кормить? Не говоря уже о воспитании, а тем более об образовании. Какое бы тут хорошее или плохое не было правительство, на всё это стране просто не хватит средств, а уж у родителей – и подавно.
Кстати, такой перекос связан, в том числе и с тем, что ещё не так давно в Африке была очень высокая детская смертность – до трёх лет и даже до пятилетнего возраста доживали в лучшем случае один-два ребёнка. Но ситуация изменилась, и существующая сейчас относительно развитая система здравоохранения позволяет выжить практически всем. А рожают по-прежнему по 10 детей. Конечно, кто-то может сказать: «Да ничего страшного, это же традиционный уклад». Всё это прекрасно, но всегда есть предел, после которого никакая экономика уже не может нормально развиваться. В данном случае – это жуткое перенаселение. И пока число жителей Чёрного континента только растёт.
.

.
– И как с этим бороться?
– Нужно остановить экстремальный рост африканского населения, сделав рождаемость контролируемой. Причём, важно понимать, что перенаселение – проблема, требующая незамедлительного решения. Африка столкнулась с ней далеко не первой, поэтому, отталкиваясь от чужого опыта, может избежать многих ошибок, допущенных в этом своими предшественниками. Например, Китаем, которому пришлось очень жёстко реагировать на угрозы, что способен принести за собой демографический взрыв.
Вспомните китайскую государственную программу «Одна семья – один ребёнок», проводившуюся с 1979-го по 2015 год. Несоблюдение этого правила строго каралось. Сегодня об этом мало кто говорит, но те вынужденные и крайне неприятные ограничения стали одним из мощных внутренних двигателей роста китайской экономики. В итоге они, конечно, привели и к значительным демографическим перекосам, к таким негативным последствиям для КНР, как дисбаланс полов, рост уровня неравенства, быстрое старение нации и сокращение работоспособного населения. Но никто же и не призывает делать в Африке всё то же самое, что и в Китае.
Трое детей в одной семье, а именно так уже заведено сейчас во многих относительно крупных африканских городах, было бы совершенно нормально. Городские жители – те, что более-менее образованы, как правило, сами прекрасно понимают, что три ребёнка для обычной семьи вполне достаточно, поскольку хорошее воспитание, достойное образование и всё остальное обходится недёшево, поэтому семерых детей просто не осилить. Соответственно, демографическая ситуация в городах потихоньку, но улучшается.
.

.
В то же время, африканские деревни и необъятные сельские регионы продолжают страдать от бедности и необразованности. Что в Уганде, что в Эфиопии, что в большинстве других стран Чёрного континента. Там заводят детей, чтобы те кормили родителей на старости лет, поскольку где-то действует ограниченная пенсионная система, а где-то её и вовсе нет. Как результат – в среднем по Африке на семью приходится сейчас по шесть-семь детей. Между тем, очевидно, что три ребёнка, получивших хорошее воспитание и образование, смогут лучше помогать родителям, чем семеро неучей, благосостояние которых и уровень жизни вряд ли будут когда-либо достаточно высокими.
Поэтому лично я присоединяюсь к исследователям Африканского континента, которые полагают, что для нормальной жизни африканцев в их семьях, по крайней мере, на данном этапе развития, должно быть не больше трёх детей. Это совершенно точно не приведёт к демографическому провалу, но проблема с перенаселением начнёт решаться.
Также следует отметить, что на ситуацию может серьёзно повлиять и масштабная электрификация Чёрного континента, особенно если доступ к более-менее дешёвому электричеству получит сельское население. Поскольку, как бы странно это ни выглядело в XXI веке, от наличия или отсутствия света в африканской глубинке до сих пор зависит то, сколько детей рождается в семьях.
– В государствах Северной Африки демографическая ситуация сегодня сравнима с тем, что происходит в странах южнее Сахары?
– В Марокко, Тунисе и Египте ещё не так давно была такая же демографическая проблема. Но североафриканские государства постепенно её преодолевают – как раз за счёт повышения уровня образования и улучшения регулирования самой рождаемости. Уровень образования там под 60%, а два-три ребёнка в семье – вполне обычное дело. И, кстати говоря, это крайне положительно отражается на экономической ситуации в регионе.
.

.
Внутренние резервы
– Как именно?
– Это стимулирует экономическую активность внутри североафриканских стран. Люди в Северной Африке получили возможность тратить по своему усмотрению и даже откладывать те средства, которые раньше целиком и полностью уходили фактически на выживание огромных семей. Поэтому сейчас они уже идут не на банальную поддержку скудного существования, а на развитие.
В Африке, что южнее Сахары, ситуация пока совсем не такая радужная. Собственный, внутриафриканский капитал там практически полностью отсутствует – есть в основном только заёмный. Потому, что просто нет свободных денег, как и сбережений. А те, у кого-то они есть, не хранят их в африканских банках из-за непомерно высоких процентов и крайней нестабильности местных валют. Все они держат свои сбережения главным образом в странах коллективного Запада.
По существующим данным, жители государств к югу от Сахары хранят на банковских депозитах внутри своих стран не более 20% от общего объёма ВВП. Для сравнения – в Марокко этот показатель приближается к 100%, а, допустим, в Китае – к 200%. В итоге власти государств Чёрной Африки, чтобы их страны как-то держались на плаву, вынуждены делать внешние займы. И неважно дорогие эти займы или дешёвые, они, если и не убивают экономику африканских государств, то, как минимум, не дают ей полноценно развиваться. Потому, что приоритеты подавляющего большинства внешних инвесторов связаны не с перспективами развития Африки, а с удовлетворением собственных интересов и потребностей. На самом деле, им очень даже выгодно, чтобы Чёрная Африка продолжала оставаться в своём нынешнем состоянии, ведь, чем сильнее она будет недоразвита, тем больше выгод получат внешние игроки, как глобальные, так и не очень. И в этом нет ничего удивительного, поскольку для них это, как всем известно, всего лишь бизнес.
Чтобы изменить ситуацию, необходимо сделать так, чтобы большинство африканского населения стало хранить и тратить деньги внутри своих стран, причём, в местной валюте, как это не так уж и давно произошло в том же Китае. Тогда можно добиться существенного роста экономики за счёт внутренних резервов. Политическая элита государств южнее Сахары начинает это осознавать. Трезвомыслящие иностранные специалисты тоже не устают об этом говорить. Поэтому есть надежда, что ближайшие годы, начиная с 2025-го, станут для Африки переломными в хорошем смысле – меньше конфликтов, лучше уровень образования, грамотное регулирование демографической ситуации и так далее. Особенно для больших стран Чёрного континента.
Беседу вёл Денис Кириллов