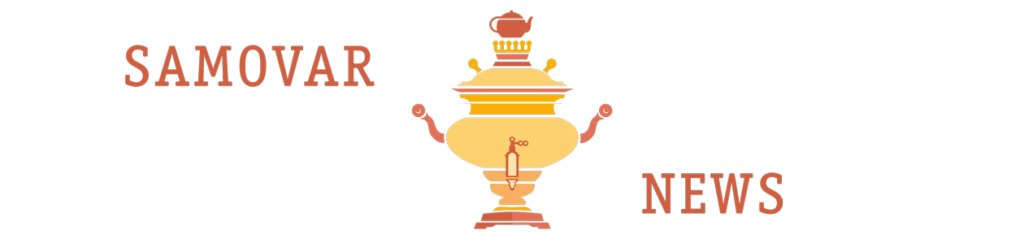Станислав Васильевич Мезенцев
.
– Станислав Васильевич, в последнее время всё больше внимания в мире уделяется именно Африканскому континенту. Чем он так важен для глобального развития?
– Начнём с того, что, ещё со времён фараонов, Африка остаётся одним из крупнейших мировых перекрёстков торговых путей и логистических маршрутов. В современных условиях – глобального разделения труда, да и самого мира, стремящегося к многополярности, значение этого аспекта стремительно растёт. Ведь, Африканский континент расположен между бурно развивающейся Азией и развитой Европой, которые являются друг для друга очень важными торговыми партнёрами.
.

.
Три фактора
– Через Африку проходят весьма серьёзные в глобальном масштабе объёмы разнонаправленных поставок энергоносителей и другого сырья, критически важного для мирового развития. Наглядным примером, демонстрирующим стратегическую значимость африканских логистических артерий для глобальной торговли, может служить знаменитый Суэцкий канал. Достаточно констатировать, что сбои в его работе в 2023-2024 годах из-за повышенной активности йеменских хуситов в Красном море на фоне эскалации арабо-израильского конфликта привели к огромным перекосам не только в экономике Египта, но и всего мира.
Второе – это природные ресурсы Африки. Дело в том, что запасы минеральных ресурсов континента сегодня не только не исчерпаны, как во многих других регионах мира, но даже не до конца разведаны. При этом значительная часть уже отрытых месторождений остаётся нетронутой, а масса бескрайних африканских территорий и вовсе не исследована на предмет поиска и разведки полезных ископаемых. Тем не менее, по данным тех изысканий, что всё-таки были проведены, достоверно известно – доля континента в структуре мировых запасов нефти составляет более 7%, природного газа – свыше 9%. Учитывая ситуацию, логично предполагать, что, при более детальном и целенаправленном изучении недр всей Африки, а не только некоторых территорий отдельно взятых её стран, эти показатели существенно увеличатся.
.

.
Впрочем, даже если этого и не случится, по имеющимся оценкам, Чёрный континент уже сейчас обладает порядка 83% глобальных разведанных запасов металлов платиновой группы, 80% – колтана, свыше 76% – хромовых и 62% – марганцевых руд, более 50% – кобальта, около 40% – бокситов. И так далее, включая редкоземельные металлы и много чего ещё. А нужно заметить, что, допустим, колтан, он же – колумбит-танталит, сегодня крайне востребован на мировом рынке. Минерал этот не просто редкий и потому дорогой, но и очень ценный. Это сырьё для получения таких элементов, как ниобий и тантал, которые являются ключевыми компонентами для изготовления, например, электролитических конденсаторов, широко используемых в современных электронных устройствах. Это – основа самых высокотехнологичных производств, без которой в настоящее время невозможно развитие целого ряда передовых отраслей глобальной экономики.
Собственно, в этом и заключается ещё одна уникальная, но далеко не последняя особенность Африканского континента и его высокая ценность для всего мира. И, надо сказать, что именно благодаря этому Африка будет неизменно оставаться очень и очень перспективной в глобальном смысле многие десятки, а то и сотни лет вперёд. Потому, что человечество перешло к таким темпам технологического роста, которые, как бы того не хотелось идеалистам, полностью исключают массовое возвращение к той же «конской тяге». И требуют всё большего использования редких минеральных ресурсов, без которых дальнейшее развитие цивилизации нереально. А такие ресурсы как раз есть в Африке, причём в огромном количестве.
.

.
Но и это ещё не всё. Третий фактор, который привлекает к Чёрному континенту пристальное внимание всего мира – самое быстрорастущее население на нашей планете. Причём, фактор этот нужно рассматривать как минимум с двух ключевых ракурсов.
С одной стороны, это огромный растущий рынок потребления. Потому, что Африка была, есть и будет, причём в длительной перспективе, очень зависима от импорта много чего, пока сама не выйдет на полное самообеспечение. На континенте есть практически любые ресурсы, но пока нет мощностей, необходимых для организации их широкомасштабного использования, как и возможностей для быстрого создания таких производств. Того, что уже есть, категорически недостаточно, а пока не появятся новые соответствующие активы, Африка будет оставаться зависимой от импорта. А именно это – крайне интересно всему так называемому мировому сообществу, которое рассматривает континент, в первую очередь, как огромный и быстрорастущий рынок сбыта.
С другой стороны, сейчас Африка – самый большой и выгодный для глобального бизнеса рынок труда. Многие серьёзные международные экономисты утверждают, что эта эстафета окончательно переходит от азиатов к африканцам. Азия достигла пика своего стремительного развития, резко восходившая вверх линия которого постепенно сменяется горизонтальной. Да, она по-прежнему остаётся на достигнутом высоком уровне, но бума больше нет. Как раз потому, что стоимость рабочей силы, в направлении которой, собственно, и движется глобальный инвестиционный капитал, в Китае стала слишком высокой. Цены же на рынке труда других азиатских стран, допустим, того же Вьетнама, в точности повторяют эту тенденцию, хотя и с некоторой задержкой. В то время как Африка сегодня предлагает миру как раз самую дешёвую, самую молодую и, соответственно, самую обучаемую рабочую силу.
Каждый из трёх перечисленных факторов, а, тем более, все они вместе, и определяют стратегическую важность Чёрного континента для дальнейшего развития глобальной экономики. Что, в свою очередь, ведёт к усилению борьбы за влияние на Африку всех ключевых внешних игроков.
.

.
Конечно, времена колониальных империй давно прошли. Но очередной передел мира, который мы сегодня наблюдаем, запустил сложный процесс перераспределения активов в глобальном масштабе, который сопровождается крайне высокой турбулентностью. Для африканцев, в частности, это чревато потрясениями, соразмерными тем, что происходили при колониальном разделе континента. Назревает не просто жёсткая конкурентная борьба, а самая настоящая битва внешних акторов за Африку. Причём, ситуация будет усугубляться в самое ближайшее время. Только теперь речь идёт уже не только о вывозе слоновой кости и золота, а о контроле портов и логистических маршрутов, энергетических ресурсов и критических минералов, а также освоении внутреннего рынка континента и использовании дешёвой африканской рабочей силы.
В предыдущие десятилетия и, особенно, в последние годы в Африке закрепилось довольно много внешних игроков, в том числе и относительно новых для региона. Но бессменным признанным лидером среди них, по крайней мере, с точки зрения товарооборота, инвестиций и экономического влияния, в настоящее время остаётся Китай.
.

.
Бесценный опыт
– В чём секрет столь заметного успеха Китая в Африке?
– В высокой эффективности той модели взаимодействия с африканскими странами, которую китайцы выстроили, и её грамотной реализации на континенте. Впрочем, не лишним будет отметить, что стратегию эту изначально придумал вовсе не Китай, а, возможно это кого-то и удивит, Советский Союз. Китайцы, надо отдать им должное, оказались очень прозорливыми, воспользовавшись правильным и продуктивным советским опытом в новых геоэкономических условиях, что, собственно, и принесло им такой ошеломительный успех на Африканском континенте.
– Но многие нещадно критикуют политику, проводившуюся СССР в отношении Африканского континента. И даже утверждают, что чуть ли не из-за неё Советский Союз как раз и развалился. Это не так?
– Ни в коей мере. Это очередной миф, намеренно придуманный убеждёнными противниками СССР, который со временем превратился в один из пропагандистских штампов. В искусственно созданный шаблон для подмены реальных фактов, объясняющих настоящие причины краха Советского Союза.
В итоге большинству людей внушили, что в Африке советские специалисты якобы занимались исключительно тем, что строили коммунизм. То есть, какой-то никому не нужной, бессмысленной деятельностью, на что были потрачены мифические миллиарды долларов. Слышать это смешно и грустно. Вспомнили бы хотя бы, что у СССР долларов-то особо и не было, ведь страна была фактически исключена из финансово-экономической системы Запада. Поэтому, кстати, и доллар тогда в Советском Союзе стоил сущие копейки.
Но оставим это на суд непредвзятых историков и адекватных экономистов, и вернёмся непосредственно к Африке.
.

.
– Какую же африканскую стратегию и как именно СССР осуществлял в действительности?
– В период наиболее ожесточённой схватки межу Советским Союзом и США, а это в 1970-80-х годах, мы использовали примерно ту же схему, что сегодня Китай. Я был тому свидетелем, начав работать в Африке с начала 1980-х. Чёрный континент был для СССР огромным рынком сбыта всех ключевых наших промышленных товаров – самолётов, пароходов, автомобилей, танков и так далее. И это стало ключевым драйвером развития советской промышленности.
Потому, что, условно говоря, нам самим нужно было ежегодно 100 самолётов и 500 грузовиков, а африканцам – соответственно 1000 и 5000. Естественно, что советская промышленность развивалась с учётом этого. Не было бы рынков сбыта, не было бы и такого развития. Альтернативы этому просто не было. Потребительские рынки США, Европы и Азии были для нас практически полностью закрыты. За редким исключением. Латинская Америка – слишком далеко. Тогда как Африка была почти всегда готова принять все имеющиеся у нас промышленные технологичные товары, которые на тот момент больше никто африканцам особо и не предлагал. В итоге именно африканские государства стали ключевым рынком потребления многих советских продуктов.
Достаточно вспомнить такие огромные страны, как Эфиопия при Менгисту Хайле Мариаме (первый президент и председатель Государственного Совета страны в 1987-1991-х), Анголу и Мозамбик. Только грузовиков «Урал» Советский Союз поставил им десятки, если не сотни тысяч, благодаря чему промышленный потенциал СССР стремительно развивался. И, в частности, город Миасс в Челябинской области, где над этими грузовиками трудилось порядка 150 тыс. человек. Не говоря уже о совершенствовании в нашей стране полной технологической цепочки от руды до конечных изделий, которая обеспечивала работу промышленной площадки в том же Миассе.
.

.
Кто-то берётся ошибочно утверждать, что якобы Советский Союз африканцам всё отдавал бесплатно. Или смеются, что они рассчитывались с нами одними бананами. Всё это было абсолютно не так – ничего задаром мы в Африку не поставляли. Да, все возможные бартерные схемы, связанные с бананами, с кофе и так далее, безусловно, использовались. И надо заметить, что в России, ни бананы, ни кофе по-прежнему не растут, а наша страна и по сей день продолжает их закупать, но уже за живые, причём, довольно большие деньги. Но понятное дело, что в те времена для полноценного расчёта с СССР подобных бартерных сделок было явно недостаточно. Поэтому львиная доля советских поставок осуществлялась в рамках государственных кредитов, которые Советский Союз выдавал той или иной африканской стране, естественно, под проценты.
То есть, на самом деле, СССР вообще не тратило практически никаких миллиардов долларов и даже рублей, поскольку в Африку отправлялись не деньги, а продукция советского производства. А в бухгалтерские книги записывались кредиты в свободно конвертируемой валюте. Главным образом, в долларах. Причём, для расчёта общих сумм необходимых кредитов брались экспортные цены, значительно превышающие те, что были на советском внутреннем рынке. Не говоря уже о себестоимости. Поэтому какой-нибудь легковой автомобиль «Жигули» в действительности обходился африканцам в рамках таких госкредитов, условно говоря, как премиальная модель «Мерседеса».
Таким образом, все живые деньги оставались в Советском Союзе. Промышленные мощности того же Миасса работали в три смены и развивались, потому, что спрос был высок – грузовиков Африке нужно было много. А далее включался эффект масштаба, благодаря которому себестоимость советской продукции (то же касалось, кстати, и себестоимости логистики) – грузовиков, легковых автомобилей, кораблей, самолётов и так далее – снижалась до максимально возможно уровня. На фоне того, что цены на неё, особенно, экспортные, оставались на весьма прибыльном уровне. При этом, например, доставку, логистику и страховку африканцы оплачивали нам сразу, живыми деньгами – долларами. Как, впрочем, и техническое сопровождение, и запчасти.
.

.
Параллельно был огромный объём военно-технического сотрудничества – он шёл исключительно за наличный расчёт. И тоже в свободно-конвертируемой валюте. Для понимания – только одна Эфиопия должна была СССР по госкредитам 9 млрд долларов, но с поставками вооружений, которые шли отдельной строкой, сумма советской «помощи» стране составляла уже 19 млрд.
Когда у африканских государств появлялось достаточно свободно-конвертируемой валюты, советские кредиты погашались. Не всегда равномерно, частями, но постепенно долги возвращались. А доллары советской экономике, как нетрудно догадаться, были очень нужны.
Понятно, что богатые природными ресурсами, но недостаточно хорошо экономически развитые страны Африки были далеко не всегда способны полностью рассчитаться по долгам в определённые межгосударственными соглашениями сроки погашения кредитов. В Советском Союзе это прекрасно понимали. Поэтому с самого начала предполагалось, что вместо этого у африканских государств будет прекрасная возможность предоставить СССР доступ к уже открытым на континенте месторождениям ценного сырья, а также тем, что будут выявлены в будущем с помощью геологоразведки, в том числе и при деятельном участии советских специалистов. Что, собственно, и происходило, постепенно, но вполне успешно.
.

.
Только в Эфиопии в рамках этой стратегии работала достаточно внушительная советская геологическая экспедиция численностью в несколько сотен человек – с соответствующим оборудованием, спецтехникой, вертолётами и так далее. Благодаря этому, например, в регионе Оромия советские геологи открыли крупнейшее в стране месторождение золота Lega Dembi («Лега-Демби»), на плато Огаден были выявлены крупные залежи углеводородов.
Всё это и много что ещё, да и не только в Эфиопии, должно было идти в счёт оплаты долгов Советскому Союзу. И шло, действительно шло. Допустим, к концу 1990 года первая очередь проекта Lega Dembi практически была реализована. Причём, там не просто было готово к эксплуатации месторождение золота, но фактически уже построили и обогатительный комбинат.
Но тут СССР распался и всё рухнуло.
Ошибки «молодости»
– Почему же Россия, будучи правопреемницей Советского Союза, не воспользовалась советскими достижениями в Африке?
– Возможно потому, что к власти в стране в конце 1980-х – начале 1990-х пришли амбициозные «молодые» советские политики, которых, видимо, кто-то убедил, что они-то намного умнее и прозорливее тех, кто сидел в «устаревшем» Политбюро ЦК КПСС, члены которого якобы уже вообще ничего не соображали. Или они сами себя убедили в этом. Но вместо того, чтобы защищать интересы своей страны, как сделало бы руководство любого суверенного государства, эти «прогрессивные» руководители прониклись какой-то нездоровой любовью к так называемому «всему цивилизованному миру». И с какой-то стати думали, что за это тот самый «весь цивилизованный мир» будет Россию и всех нас кормить, поить, холить, лелеять и всё остальное.
Что там произошло на самом деле – обманули их, подкупили или чем-то соблазнили – вопрос к профильным специалистам. Но простив по чьему-то «грамотному наущению» огромные африканские долги в рамках Парижского клуба, главная задача которого – как бы решать проблемы задолженности развивающихся стран (вопрос – в чьих интересах?), Россия лишилась всех своих «козырей» и фактически утратила былые широкомасштабные перспективы доступа к ресурсам Африканского континента.
В тот же период «всемирной дружбы народов» наша страна сама ушла практически отовсюду, включая и Африканский континент, забросив все советские достижения и завоевания. Как результат – Россия потеряла практически все прежние ключевые внешние рынки сбыта. А любовь ко «всему цивилизованному миру» оказалась настолько безответной, что на рынки стран, входящих в тот мир, российскую продукцию просто не пропустили. Сырьё – да, конечные продукты – нет. Исключения, безусловно, были, но они лишь стали подтверждением правила.
.

.
Сейчас, конечно, уже бессмысленно гадать была бы наша продукция конкурентоспособна в США и Европе, но в Африке это было проверено десятилетиями поставок. На тех же «Уралах», «Уазиках», «Жигулях» и «Ладах» во многих африканских странах ездят до сих пор. Если в России, наверное, сегодня есть уже целые поколения, которые их в своей жизни ни разу и не видели, то чуть ли не весь автопарк, допустим, Эфиопии состоит именно из них.
В итоге всё это привело к катастрофическим последствиям для нашей страны. Потеряв рынки сбыта, бóльшая часть промышленной базы Советского Союза оказалась России просто не нужна – продукцию стало некуда продавать. Спад объёмов производства привёл к кардинальному увеличению себестоимости и удорожанию логистики. Непонятно и что было делать с огромным количеством избыточных мощностей. Поэтому развитие многих отраслей прекратилось, а некоторые из них и вовсе стали исчезать. И сейчас все мы видим логичный результат всей этой беззаветной любви ко «всему цивилизованному миру» – то, чем всё это и должно было рано или поздно закончиться.
Что касается Африки, поскольку она вдруг моментально оказалась никому у нас не нужна (разве что для проформы), естественно, отпала и необходимость не то, что в реализации какой-то серьёзной африканской стратегии, но даже в её существовании. По крайней мере, до самого последнего времени. Надеюсь, эта ситуация будет меняться, хотя, если в перспективе и возможно как-то восстановить хоть какую-то часть нашего прежнего влияния на континенте, сделать это будет крайне сложно. Потребуется очень много времени, сил и ресурсов.
В том числе и потому, что, после развала СССР, на его место в Африке практически сразу же пришёл Китай. И пока кто-то продолжает нам рассказывать, что политика Советского Союза на континенте была недальновидна и ошибочна, Китай крайне успешно осваивает Африку, базируясь именно на советской африканской стратегии.
.

.
– Разве та «ошибочная» советская стратегия до сих пор не устарела?
– У китайцев было несколько десятилетий, достаточно спокойных в плане развития геополитической ситуации, чтобы определиться что и как они будут делать на Чёрном континенте. В итоге за основу своей стратегии они взяли именно советскую модель. Конечно, они её доработали и модернизировали с учётом всех произошедших изменений, адаптировали под себя и под новые условия глобального рынка. И – занялись её активной реализацией, внося в неё, по ходу дела, необходимые коррективы. Благодаря чему можно констатировать, что к настоящему моменту китайцы переиграли в Африке всех.
При этом нужно иметь в виду, что теперь Китай обладает значительно бóльшим ресурсом и потенциалом, чем СССР, в финансовом, техническом, технологическом, производственном, логистическом и сбытовом плане. Не говоря уже о том, что китайцы получили огромный опыт в деле взаимодействия с ключевыми глобальными игроками в рамках переноса мировых производств на свою территорию. И теперь Китай успешно использует его, но уже, превратившись в одного из ведущих таких игроков, для вывода в Африку своих собственных производств.
.

.
Китайская специфика
– Как именно Китай реализует свою африканскую стратегию? Есть ли какие-то заметные отличия от советской модели?
– Если говорить об отличиях, напомню, что Китайская Народная Республика (КНР) – социалистическое государство с так называемой «китайской спецификой», которая не мешает в рамках плановой экономики вести свою деятельность и частному бизнесу. Естественно, под пристальным вниманием государства. Соответственно стратегия развития китайской экономики не только учитывает существование этого симбиоза, но и предполагает извлечение из такого взаимодействия максимальной пользы. В том числе и в ходе наращивания китайского геоэкономического присутствия на Африканском континенте.
Наглядным примером этого может служить участие Китая в крупнейшем энергетическом и инфраструктурном проекте в Восточной Африке.
Здесь, в районе озера Альберт, на границе между Угандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), ещё полтора-два десятилетия назад были выявлены значительные залежи углеводородов. К настоящему времени в проекты освоения открытых на территории Уганды нефтяных месторождения Kingfisher («Кингфишер») и группы из шести месторождений Tilenga («Тиленга») вошла китайская государственная корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Во втором проекте, если брать в расчёт только иностранных участников, CNOOC действует в партнёрстве с французской TotalEnergies.
Параллельно с разработкой месторождений реализуется проект строительства экспортного магистрального нефтепровода Уганда-Танзания (Uganda-Tanzania Crude Oil Pipeline, UTCOP), известного также как «Восточноафриканский нефтепровод» (East African Crude Oil Pipeline, EACOP). Магистраль протяжённостью 1443 км предназначена для транспортировки добываемой в Уганде нефти в танзанийский порт Танга, строящийся на берегу Индийского океана. В этом проекте также участвуют TotalEnergies и CNOOC.
.

.
Перспективы освоения месторождений углеводородов в районе озера Альберт в дальнейшем предполагают ещё более масштабное развитие в регионе производственных мощностей и инфраструктуры, но в контексте нашего повествования это не так важно. В данном случае нас интересует то, по какой именно модели китайцы работают на Африканском континенте.
А происходит это, если говорить упрощённо, примерно так. В крупные проекты в Восточной Африке вошла китайская государственная CNOOC. Естественно, при широкомасштабной поддержке государственных же кредитных организаций Китая.
При этом нужно отметить, что, в рамках «зелёной» повестки «всего цивилизованного мира», Европейский союз и так называемые «глобальные экологические группы» выступили категорически против реализации перечисленных проектов, включая нефтепровод Уганда-Танзания, под предлогом непримиримой борьбы человечества с углеродным следом. И, соответственно, против финансирования создания всей этой инфраструктуры. В результате такого демарша аж 24 банка международного значения от проекта EACOP дистанцировалось. В итоге в игре остались лишь две кредитные организации – Stanbic Bank Uganda (входит в южноафриканскую Standard Bank Group) и, что особенно важно, китайская государственная корпорация по страхованию экспорта и кредитов Sinosure. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы все намеченные планы развития Восточной Африки остались по-прежнему актуальными и реалистичными.
Между тем, вслед за CNOOC и Sinosure, и под их государственным крылом, в Уганду и Танзанию пришёл уже частный китайский бизнес. То есть на пути реализации задуманных проектов Китай создал огромные технопарки, в развитие которых включилась, наверное, сотня, если не больше, частных китайских компаний различного профиля и масштаба. От самых крупных до самых мелких: каждая из них не просто делает всё возможное для обеспечения потребностей проектов CNOOC, но и активно развивает собственный африканский бизнес, постепенно занимая таким образом свои ниши на внутренних рынках стран присутствия, как, если представится шанс, и их соседей. И всё это самостоятельно, хотя и при всесторонней поддержке китайского государства.
.

.
Не секрет также, что, неважно какой проект и где реализуют китайцы, они предпочитают использовать всё, что только возможно, именно китайское. Инженерно-технический состав, автопарк, спецтехнику, оборудование, материалы и даже сырьё. Всё это китайцы привозят с собой под конкретный проект. И, возможно, у других производителей и поставщиков можно найти что-то лучше. Но этого просто не требуется. Возьмём, к примеру, китайские грузовики. Немногие из них надолго переживают сроки осуществления тех или иных проектов, поскольку вырабатывают заложенный в них ресурс. Между тем, они прекрасно выполняют возложенные на них функции и с лихвой окупаются. Поэтому, по завершению работ, их просто списывают, а под новый проект привозят такие же новые. Главное, что эти грузовики выпускает китайская промышленность за юани, благодаря чему Китай прекрасно развивает соответствующие производства и никуда, на самом деле, никаких мифических миллиардов долларов не вкладывает. В точности как в своё время Советский Союз.
Кстати, иногда из-за такого подхода случаются довольно забавные истории. Не так давно китайцы строили автомагистраль в одной из стран Южной Африки. Но щебень для неё привозили из соседнего государства, хотя сырья этого вокруг бери-не хочу. Поначалу всех это очень удивило, пока не выяснилось, что в производство щебня в соседней стране принадлежит китайской компании.
Кто-то, конечно, решит, что в таком случае одной китайской компании не слишком-то разумно нести дополнительные расходы на логистику, только чтобы поддержать другую китайскую фирму, работающую по соседству. Но это не совсем так. Дело в том, что Китай, с помощью реализации своей знаменитой концепции «Один пояс – один путь», фактически замкнул на себя большинство глобальных логистических маршрутов. А эффект масштаба делает максимально низкой не только себестоимость китайских товаров, но и чуть ли не бесплатной их логистику. Поэтому, если речь идёт, в частности, об Африканском континенте, Китаю не так уж и принципиально где именно производить.
Что касается привлечения к проектам собственно африканцев, им на откуп отдаётся всё, что они могут сделать сами дешевле, лучше и быстрее. В большинстве проектов на долю так называемой локализации приходится 30-40% от общего объёма затрат. Правда, сейчас уже достаточно сложно разобраться, что там чисто африканское, а что китайское, произведённое в Африке.
.

.
В рамках концепции «Пояс – путь»
– Много ли ещё Китай создаёт в Африке таких технопарков, как в Уганде и Танзании, и в связке с какими проектами?
– В основном всё это делается в рамках концепции «Пояс – путь». Прежде всего, Китай стремится развивать африканские морские порты, от которых протягивает автотрассы вглубь континента. В последнее время всё больше внимания китайцы стали уделять и аэропортам. Естественно, что их интересует не просто развитие инфраструктуры в Африке, но и контроль над ней.
Так, в Уганде есть лишь один международный аэропорт – Энтеббе, расположенный неподалёку от одноимённого города на северном берегу озера Виктория. Построен и открыт он был ещё британскими колониальными властями. В то же время от аэропорта до угандийской столицы Кампала была проложена автомобильная дорога протяжённостью примерно 49 км. И с тех самых пор, то есть со времён британской колонизации, эта трасса, поддерживалась, конечно, в рабочем состоянии, но практически никак не модернизировалась. Из-за этого в дороге от Кампалы до аэропорта и в обратном направлении зачастую можно было провести, по меньшей мере, час-полтора, а в час-пик и все два. А, ведь, скорость перемещения важна не только для туристов. Соответственно, поскольку Уганда в африканской стратегии Китая имеет большое значение, китайцы проложили здесь высокоскоростную автомагистраль – трёх-четырёхполосную в обе стороны и отличного качества. И теперь время в дороге на маршруте Кампала-Энтеббе, как правило, уже не превышает и 20 минут. Сам относительно небольшой и довольно старый аэропорт Энтеббе также давно находился в удручающем состоянии, и китайцы тоже построили вместо него новый огромный современный комплекс.
Занималась этим госкорпорация China Communications Construction Company (CCCC), специализирующаяся на проектировании и строительстве объектов транспортной инфраструктуры. Кстати, это – один из мировых лидеров в своей области, охватывающей, помимо автодорог и аэропортов, морские порты, мосты, железные дороги, метро, объекты недвижимости и так далее. Интересно, что аббревиатура этой китайской компании – CCCC – очень похожа на СССР, но проекты реализует уже на более высоком уровне, чем в своё время Советский Союз.
.

.
Такие инфраструктурные проекты, как новый аэропорт в Уганде, связанный со столицей скоростной автодорогой, оказывают крайне положительное влияние на развитие экономики Африканского континента. КНР делает такие предложения африканцам, от которых просто невозможно отказаться. Прежде всего, дешёвые и долгосрочные кредиты. Конечно, долговая нагрузка на африканские государства растёт. Однако пока больше никто в мире подобного даже не предлагает. И кто бы что ни говорил, инфраструктура, которую создают китайцы, навсегда останется в Африке. Ведь, изначально предполагается, что, рано или поздно, но она полностью перейдёт под контроль африканских государств.
Дело в том, что, включаясь в африканские проекты, Китай широко использует такой механизм, как Build-Operate-Transfer (ВОТ). А ВОТ определяет, что инвестор обязуется построить объект, ввести его в эксплуатацию и управлять им до обеспечения возврата вложенных средств, после чего – передать новому владельцу, которого определит государство.
То есть, допустим, китайцы построили скоростную магистраль, она – платная, поэтому всю прибыль от её эксплуатации они будут забирать в счёт погашения кредита. Очевидно, что на возвращение такого долга могут уйти многие годы. Но тут, как и в случае с советской африканской стратегией, есть возможность рассчитываться по кредитам, предоставляя Китаю доступ к равноценным африканским активам. Например, к минеральным ресурсам. И надо сказать, что определённые договорённости относительно этого есть и были с самого начала.
.

.
Что касается китайских технопарков в Африке, их создание также координируется со всеми проектами КНР в рамках реализации концепции «Пояс – путь».
Сейчас Китай – один из глобальных экономических лидеров. Но, чтобы этого добиться, ему пришлось пройти длинный и очень непростой путь. От страны, в которой практически ничего своего не было, до государства, на территории которого открылись сначала сборочные цехи зарубежных компаний, а затем и полноценные иностранные производства, обеспечивающие потребности чуть ли не всего мира. Начали китайцы с простого копирования международного опыта, доработав и усовершенствовав который, стали развивать уже собственные технологии и предприятия. И постепенно китайская продукция становится не то, чтобы не хуже, но, зачастую, уже значительно лучше и дешевле зарубежных аналогов. Между тем, получив этот бесценный опыт, КНР стала сама активно применять его, в частности, на всём Африканском континенте. То есть, Китай начал переносить производства очень многих отраслей своей промышленности на территорию африканских стран.
Например, в Эфиопии, которая является одним из важнейших торгово-экономических партнёров КНР в Африке, созданы целые промышленные зоны. Практически вдоль всей автотрассы, ведущей из эфиопской столицы Аддис-Абеба до Дэбрэ-Зэйта, и слева, и справа – сплошные китайские фабрики, заводы и предприятия, похожие на те, с каких в своё время начинал расти сам Китай. Пока бóльшая часть из них – достаточно примитивные сборочные цехи, в которых используется труд огромного числа африканских рабочих. Сейчас это – очень дешёвая рабочая сила в сравнении с любыми азиатскими странами, даже с Вьетнамом. Таким образом китайцы кардинально удешевляют себестоимость своих производств.
Сколько тысяч километров таких автомагистралей КНР уже построила в Эфиопии – и не счесть. Потому, что это – огромная страна с населением почти 133 млн человек. И она очень зависит от импорта из Китая. А китайцы, помимо конечного товара, доставляют туда «полуфабрикат», где превращают его в «финальный продукт», который не только реализуется на огромном африканском рынке, но ещё и «реэкспортируется» дальше, за пределы континента. А для этого КНР нужны уже африканские морские порты.
.

.
Ворота в Африку
– Главными входными, как, впрочем, и выходными воротами Китая в Африке остаётся небольшая страна – Джибути, которую с некоторых пор принято называть «географическим карликом» и одновременно «геополитическим гигантом». Всё дело в уникальном расположении страны на побережье Аденского залива, рядом с проливом Баб-эль-Мандеб, который является ключевой частью логистической цепочки весьма популярного торгового маршрута, ведущего из Индийского океана в Красное море. Контроль Баб-эль-Мандебского пролива позволяет охранять выходы к Суэцкому каналу. Таким образом, Джибути рассматривается всеми глобальными игроками как стратегически важный форпост на пути следования одного из самых мощных в регионе товаропотоков, который включает, в том числе, и крайне значительные объёмы морских перевозок энергоресурсов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что здесь находится четыре морских порта и аж целых 11 иностранных военных объектов. А благополучие этого государства с населением чуть менее 1,2 млн человек, напрямую зависит от пролегающих через её морские порты торговых путей, а также арендной платы за пользование военными базами.
Нужно заметить, что по своей площади Джибути занимает 160-е место среди стран мира, немного уступая, допустим, Северной Македонии и также незначительно опережая, например, Словению. А порядка половины джибутийского населения, если не больше, и вовсе ведёт кочевой образ жизни и, возможно, как и в колониальные времена, даже не знает, к какому именно государству принадлежит. Поэтому, в принципе, по африканским меркам, страна живёт достаточно хорошо.
КНР активно действует через Джибути на вход-выход своих товаров. Для этого китайцы в довольно жёсткой конкурентной борьбе переиграли крупного по глобальным меркам портового оператора из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) – компанию Dubai Port World (DP World), которая претендовала на контроль крупнейших джибутийских портов. И сегодня Китай управляет главным и крупнейшим портом Республики Джибути – Djibouti («Джибути»). И вторым по значению многофункциональным портом страны Doraleh («Дорале»), расположенном в западной части столицы Джибути и, по сути, являющимся продолжением главного порта страны. Реконструкцию старого порта «Джибути» провела China Merchants Port Holdings (CMPort), управлением им и специально созданной Китаем для развития припортовой инфраструктуры свободной торговой зоны занялась китайская Great Horn Investment Holdings SAS.
.

.
Огромная китайская свободная экономическая зона – беспошлинная, торгово-промышленная, с широкомасштабным участием частного капитала, была создана в партнёрстве с джибутийским правительством. Это уникальный многофункциональный комплекс, который работает как часы. Он настроен на то, чтобы китайские товары и полуфабрикаты массово заходили через Джибути на Африканский континент. Часть из них расходится на внутреннем рынке сразу, другая – проходит через сборочные цехи, например, в Эфиопии, где из них получают конечный продукт, который затем реализуется непосредственно в Африке или реэкспортируется, в том числе и через Джибути.
Помимо этого, китайцы осуществили ряд важных для реализации своей стратегии сопутствующих проектов, в том числе – построили современную железнодорожную линиюАддис-Абеба–Джибути, соединяющую джибутийские порты со своими предприятиями в Эфиопии.
Понять насколько этот торговый маршрут важен для КНР не так уж и сложно. Достаточно констатировать, что ранее китайцы проявляли повышенную заинтересованность исключительно к участию в торгово-экономических сделках со странами Африканского континента и в получении доступа к наиболее ценным ресурсам региона, в первую очередь, в промышленном секторе. Но в конце 2010-х стала чётко просматриваться новая тенденция. Китай посчитал, что должен более решительно защищать свои интересы, и в 2017 году открыл первую в своей истории зарубежную военную базу – как раз в Джибути.
Военно-морская база вблизи управляемого китайцами порта «Дорале» расположилась рядом с уже существовавшей американской, что вызвало сильное напряжение. Ещё раз напомню, что в Джибути сейчас действует 11 иностранных военных объектов, включая базы США, КНР, Франции, Италии и Японии.
.

.
Действие и противодействие
– Очевидно, что успехи Китая сильно беспокоят других участников глобального бизнеса, претендующего на доступ к африканским ресурсам и активам. Насколько сильнó противодействие конкурентов КНР, как и тех, кто делает на них ставку внутри континента?
– Китай реализует свою стратегию, в том числе и в Африке, с горизонтом планирования на 200 лет вперёд. В такой ситуации потеснить КНР кому бы то ни было здесь будет крайне трудно, поскольку он будет и дальше стараться расширять своё влияние на континенте. В 2024 году эта тенденция, как один из экономических итогов последних лет, только усиливалась.
Естественно, что конкуренты будут пытаться мешать китайцам всеми возможными способами, пользуясь опасениями, существующими внутри африканского общества из-за стремительной экономической экспансии Китая, разжигая недовольство жителей континента по любому подвернувшемуся поводу, указывая на малейшие ошибки, недочёты и даже просто какие-то спорные моменты. Повод к чему-то придраться, при желании, всегда можно найти.
Азиаты совершенно не похожи на африканцев. И, например, одним из поводов для беспокойства является то, что китайцы в Африке не ассимилируются. В результате в крупных городах появляются «чайна-тауны» – этнические анклавы, являющиеся центрами культуры, торговли и проживания китайских общин. Допустим, в Сьерра-Леоне это не просто квартал Фритауна, а огромный город внутри города, который гораздо лучше и современней, чем собственно столица страны. И там практически никто не говорит ни на каком другом языке, кроме китайского. А такие «чайна-тауны» раскиданы сегодня по всему Африканскому континенту, как форпосты, которые быстро растут и постепенно расширяют свои территории.
.

.
Причины этого явления вполне понятны. С начала 2000-х годов КНР занималась решением такой важной проблемы, как высокая перенаселенность континентального Китая. Неформально это отражалось и на отдельных направлениях внешней политики страны, в том числе и на африканском. Избыточные китайские трудовые ресурсы отправлялись на Чёрный континент с расчётом на то, что бóльшая их часть уже не вернётся к себе на родину после завершения контрактов. Более того, такие решения не просто приветствовались, но и всесторонне стимулировались. Так, если оставшийся в Африке китаец открывал какой-то собственный бизнес, чтобы закрепиться на континенте, он мог даже получить финансовую поддержку китайского государства. Кроме того, если в КНР достаточно долгое время действовали ограничения, которые предполагали, что одна семья может иметь лишь одного ребёнка, то, оставаясь на постоянной основе в Африке, китайцы могли рожать детей сколько душе угодно. Таким образом, Китай поддерживал переселение части своих граждан на Чёрный континент и создание тех самых «чайна-таунов», способствуя этому как на политическом, так и на финансово-экономическом уровне. Но – неформально, всё это старались не афишировать.
Очевидно, что КНР не была заинтересована в том, чтобы в Африку массово навсегда уезжали высококлассные китайские специалисты. Но совсем другое дело, допустим, заключённые, осуждённые в Китае. Здесь в качестве примера приведу интересный эпизод из моей собственной практики.
В конце 2000-х мы посещали закрытые районы Эфиопии на границе с Эритреей для проведения инспекции миротворческого контингента, действовавшего в рамках миссии ООН. Коллеги из других государств отправились в пункт назначения на самолёте, а мы с помощником ради интереса решили добраться до места на автомобиле. Тогда, в том «закрытом» районе, куда мало кого пускали, Китай осуществлял один из своих проектов строительства автомагистрали. По пути нам встретилось несколько довольно больших групп китайских рабочих в традиционных соломенных шляпах, которые на страшной жаре вручную – мотыгами – делали отсыпку строящейся дороги. Впоследствии я спросил у одного из эфиопских военных – что это были за рабочие? Он объяснил, что это китайские заключённые. Их доставляли огромным военно-транспортным самолётом в Эфиопию, где они отрабатывали сроки своего заключения, принимая участие в подобных китайских проектах. Естественно, в рамках соответствующих китайско-эфиопских договорённостей, которые позволяют привлекать китайцев, осуждённых за нетяжкие преступления, к работам под надзором китайских инженерно-технических специалистов. Но самое интересное, что после завершения срока наказания, этим заключённым не предоставляли средств на возвращение обратно в Китай, а просто отпускали. В итоге они оседали в Африке, где создавали семьи, открывали бизнес и начинали новую жизнь.
.

.
Кстати, переселение – то новое, что привнёс Китай на Африканский континент. Советский Союз никогда такого не делал, в том числе и потому, что в СССР просто не было слишком много людей. Впрочем, всё это и сегодня остаётся одним из факторов напряжённости, связанных с реализацией африканской стратегии КНР.
Также предметом критики могут служить так называемые «финансовые подарки», которые проходят по специальной статье бюджета китайских компаний. В США это называется лоббирование интересов и не считается чем-то предосудительным. Однако много где за пределами Соединённых Штатов к этому относятся не так однозначно. КНР активно используют этот инструмент продвижения своих интересов в Африке, что позволяет конкурентам по-своему толковать подобные методы работы китайцев и провоцировать таким образом их порицание в африканском обществе.
Поводом для пересудов остаётся и то, что на первоначальном этапе развития экономики Китая его продукция, хоть и была значительно дешевле аналогов из других стран, но по качеству серьёзно им уступала. Однако, во-первых, китайцы в любой ситуации очень быстро делают правильные выводы и оперативно реагируют для скорейшего решения возникающих сложностей, во-вторых – готовы идти навстречу своим африканским партнёрам.
В качестве примера можно привести показательный эпизод из относительно недалёкого прошлого. В середине 2000-х Китай впервые выиграл тендер на поставку в Эфиопию большой партии бронетранспортёров собственного производства. Они были значительно дешевле российских. Но с первыми китайскими боевыми машинами, оказавшимися в этой африканской стране, возникла проблема. Колёсная резина бронетранспортёров начала лопаться и спускать, хотя, по техническим требованиям, должна была выдерживать не менее шести пробоин, автоматически при этом надуваясь. Однако китайцы не растерялись. Буквально сразу в Эфиопию прилетел огромный самолёт, на котором был замминистра обороны Китая и гендиректор Poly Technologies – китайского аналога нашего «Рособоронэкспорта». На этом же самолёте была доставлена промышленная установка по вулканизации и ремонту тех самых шин, которая была передана Эфиопии бесплатно. Следующая партия бронетранспортёров пришла с резиной от российских аналогов, но через очень короткое время китайцы полностью укомплектовали свои боевые машины деталями собственного производства высокого качества.
.

.
Кстати, сейчас африканцы уже не готовы брать всё подряд, что им предлагают. Теперь они внимательно смотрят не только на цену, но и на качество. Континент начинает развиваться именно в рамках этой тенденции. А китайцы, нужно отдать им должное, идут африканцам навстречу. В этом плане с Китаем пока никто не может соперничать.
Что касается пагубного влияния конкурентов КНР на настроения африканского населения, оно, безусловно, присутствует, со всеми вытекающими из этого последствиями. Свою лепту в это вносят и африканские политики-популисты, которым зачастую выгодно играть на струнах панафриканизма, чтобы обеспечить себе дешёвую популярность в народе. Несмотря на это, подавляющее большинство жителей континента близкó к пониманию реальных процессов, происходящих в Африке. Как и высокопоставленные африканцы, принимающие решения. Для них важно, что Китай способствует активному и всестороннему развитию инфраструктуры, промышленности и, в конечном счёте, экономики африканских стран и континента в целом. И это для них – главное.
– Каковы, по вашему мнению, дальнейшие перспективы реализации африканской стратегии Китая?
– Не исключено, что смена руководства Соединённых Штатов и пересмотр командой нового американского президента Дональда Трампа внешнеэкономических подходов США, в том числе стратегии в отношении Африки, приведут к значительным изменениям ситуации на континенте. До последнего времени американцы концентрировались главным образом на геополитических аспектах своего присутствия за рубежом. Трамп же, судя по всему, будет требовать экономической отдачи от внешнеполитической деятельности своей страны. А это может привести не только к усилению соперничества Соединённых Штатов с Китаем, но и к началу полноценной, более широкомасштабной конфронтации между ними на Африканском континенте.
Беседу вёл Денис Кириллов